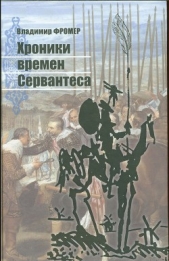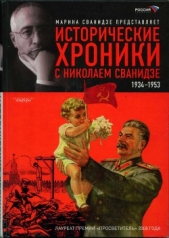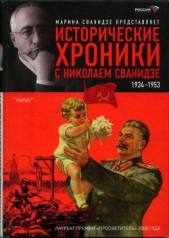Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта

Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта читать книгу онлайн
В новой книге известного режиссера Игоря Талалаевского три невероятные женщины «времен минувших» — Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская и Лиля Брик — переворачивают наши представления о границах дозволенного. Страсть и бунт взыскующего женского эго! Как духи спиритического сеанса три фурии восстают в дневниках и письмах, мемуарах современников, вовлекая нас в извечную борьбу Эроса и Танатоса. Среди героев романов — Ницше, Рильке, Фрейд, Бальмонт, Белый, Брюсов. Ходасевич, Маяковский, Шкловский, Арагон и множество других знаковых фигур ХIХ-ХХ веков, волею Судеб попавших в сети их магического влияния. С невиданной откровенностью Психея разоблачается в очах видящих…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я столько смеялся над Бальмонтом, неужели же я на себе испытаю его участь?
Милая, Нина, маленькая, хорошая! Хочется верить, что это миг, что это припадок уныния! Упасть бы около Тебя, на ковер, положить голову Тебе на колени и лежать так недвижно, чувствуя Твою руку на лиде, угадывая Твои глаза над собой, зная, зная Твою близость…
Твою близость, Нина!..
Нина — Брюсову. 30 мая — 1 июня 1906. Москва.
Валерий, милый, не сердись! Я уехала из Варшавы, но ведь это письмо ты получишь, когда меня вновь не будет в Москве. Я посылаю его с дороги на поезде в Бологое, и так мы не увидимся раньше, чем ты хотел бы. До июля меня, во всяком случае, не будет в Москве, а там я не знаю ничего, как и ты. Не сердись на меня, дорогой! Внешне в нашей разлуке я не нарушила ничего. 5 дней я была в Москве, не просила встречи, не писала, и, верь, мы не увидимся, пока ты сам не захочешь. Здесь я была у мамы, никто не знал, Сереже напишу… Но тебе, тебе я не могу лгать, и мне стыдно за письмо из Варшавы, холодное, лживое, где я писала, что еду в Цехацинов, почти решив вернуться в Москву. Все время я сознавала, что мне не нужно ехать в Варшаву, но Сережа раздражался, упрекал «в эгоизме», у меня просил и требовал отдыха от меня же. Ты тоже хотел, чтобы меня не было в Москве. Спорить я уж больше не могла. Но с первых же минут в Варшаве я увидала, что не могу, не могу… Было бесконечно грустно ехать. Все вспоминалась Финляндия, пришли горькие, горькие мысли, сдавили кольцом. Каждый миг воскрешал иной, отошедший и невозможный. А там мне дали комнату, до ужаса похожую на ту, что мы занимали в Выборге. Все походило, даже две постели стояли так же, одна за другой. Ах, ты не любишь «безумно», ты не знаешь, какое отчаяние вспоминать. Эти три дня я была с тобой, около тебя более, чем когда-либо. Отошла вся тяжелая мучительность, все простила душа, осталась только знойная яркость дорогих, дорогих минут. Мне не хотелось плакать, но внутри возникало что-то непобедимое, упрямое, сильное. Я поняла, что не хочу ничего, что не ты. Я буду одна, то радостная, то в слезах и в отчаянии, но сейчас я не хочу никого, никаких людей, встреч, развлечений. Я буду одна и всегда с тобой. И если мне что-нибудь нужно сейчас, то это не увеселительные сады и веселые ночи Бог знает с кем и где.
Хочу быть ясной, тихой, буду любить тебя там на озере «между сосен тонкоствольных» покорно, грустно, нежно. Буду ждать твоих писем, буду ждать новой встречи, верить… Ах, полюби мою любовь! Всю жизнь я шла к ней, к такой, к единственной, вечной, и вот она — последнее достижение, самая дорогая, желанная мечта. И ты ее не любишь, не хочешь, боишься! Мы все рассказали и все знаем; теперь погляди в последнюю глубину, полюби ее прозрачность, полюби мою «верность», не желай, чтоб вновь во мне возникли какие-то смутные тени. Я могу стать иной, если захочешь, — я сломаюсь, мне это легче, чем иным вдруг получить «голубые глаза». Но зачем?… Грешно сорвать и бросить такой редкий, долгожданный цветок. Но что говорить!? Все будет, как ты хочешь. Ах, только не сердись на меня сейчас, не упрекай, не жди с тоской новых и близких мучительств. Мы не встретимся скоро. Отдыхай, пиши твой роман, работай спокойно. Разве я враг тебе, разве я хочу твоих мучений! Ты все понял, все знаешь и, может быть, многое простишь мне. Больно любить, душа беспомощно открыта всем обидам, вонзалось столько мучительных жал.
Ты, мой зверочек, все хвораешь. Бедный зверь, плохо тебе там, в этом новом «змеином гнезде». Зачем же еще сырость и социал-демократы? Ты затомишься летом в вечных разъездах, по вагонам, в пыли. Затомишься, не отдохнешь, не напишешь ничего, и вот тебе, если встретимся, будет казаться, что все это я, от меня. Милый мой, я тебя нежно и покорно люблю. За эти дни я стала тихая, тихая. Все 5 дней я сидела у мамы в квартире безвыходно, к себе не входила в квартиру, не видала ничего, кроме стены противоположного дома. Никто и не знал, что я здесь. С Сережей не хотела встретиться, тоже еще не зажили раны. Опять упреки, боль, обиды. Уж лучше напишу ему как приеду… А сейчас, я знаю, тысячи самых разнообразных неудач, на всех планах, начиная с самых грубых, о которых мы с тобой никогда не говорим. И все это так или иначе падает и на меня. А я, право, устала тоже. Хочется отдохнуть. Ты не любишь этого слова, но что же делать. У меня руки «как палочки». Глядя на себя, все вспоминаю картинку «Голод в Индии». Прости, говорю глупости, но так хочется говорить тебе все, все, даже самые пустые шутливые мысли.
Напиши мне, зверочек. Я знаю эти летние дни, когда одна радость — твои письма, знаю эти часы тревоги, дрожи, ожиданья. И вся жизнь идет «от письма до письма». Не сердись, что я тебя так люблю. Не разлюби меня за это. Я знаю, за это перестают любить. Зверочек, зверочек, милый, вот прижимаюсь к твоим рукам, целую, смотри в мои «черные глазки»…. Они милые, любимые, дорогие. И весь ты желанный, близкий, дорогой… Не покидай меня, люби меня, я вся, вся Твоя…
Я случайно столкнулась с Сережей, таким образом, мой план «объявиться» уже из Бологого — не осуществился. Поеду только сегодня, 1-го. Было очень, очень трудно не позвать тебя… Так хотелось поцеловать, услышать твой голос…. Но я не поддалась этому искушению. Да и страшно было увидеть на твоем лице вместо радости тень скрытой досады. Я ведь знаю, знаю твое лицо. Милый, я люблю тебя! Не забывай, не покидай! Ах, как близко, близко мечтой я была с тобой в эти дни. Ты мне снился, ласковый, нежный… Люблю тебя.
Брюсов — Нине. 2 июня 1906. Москва.
…Твое письмо без марки, с пометой «Москва», произвело на меня сильнейшее впечатление. Я получил это письмо после 4 час., тотчас взялся за телефон, и Твоя Матрена ответила мне, что в этот самый миг Ты уезжаешь. Ты все же поступила нехорошо, не известив меня, что Ты в Москве, не увидавшись со мной. Мне это горько и обидно. Ты — и пряталась от меня! как же это!
И еще — зачем же ты меня обманывала, говоря в письме из Варшавы, что едешь в Цехацинов…
Состояние души моей не улучшается, а делается все хуже и хуже. Чувствую полное бессилие. Мой верный термометр, мое стихотворное творчество, упал очень низко: со дня Твоего отъезда я не написал ни одного стиха. Да и вообще с января я вряд ли написал больше десяти стихотворений, очень умеренного достоинства. Перестать писать стихи для меня совершенно равносильно духовной смерти. А я перестал писать стихи. Ты пишешь мне: работай. Я ничего не могу работать. С большим усилием над собой делаю я кое-что по библиографии для нового издания Пушкина, затеянного Брокгаузом; больше ни на что не способен…
Я знаю, какой совет Ты дала бы мне в ответ на эти жалобы, если бы захотела говорить откровенно: «Перемени всю жизнь! Брось все! Стань безумным!» Нет, Нина, чтобы стать безумным, нужны душевные силы, а их у меня нет. Чтобы стать безумным, нужна энергия и воля, а их у меня сейчас нет. Чтобы стать безумным, нужно, наконец, безумие, а во мне его теперь нет вовсе, вовсе! Я был прав, когда на пути из Финляндии говорил Тебе, что вершина пройдена; Ты была права, когда в начале минувшей зимы говорила мне, что я стал «плохим», «хуже», что такого меня Ты не хочешь. Да, в жизни моей души эти десять месяцев были одним падением, медленным скатыванием по отлогой плоскости в пропасть. И я сознаю, что никакая сила не может удержать этого моего падения. Я должен упасть до дна. Тогда лишь может наступить возрождение. Тогдалишь могут вдруг вырасти крылья. И дно уже близко. Вижу его.
Нина! Нина! девочка моя! Ты, может быть, ждешь от меня слов, которые дали бы Тебе силы, ободрили Тебя. Нет у меня таких слов. И мой голос становится глухим, и мои слова тусклыми. Ждать от меня сейчас нечего, помочь мне сейчас нечем, можно лишь пожалеть меня, можно лишь надеяться на меня, надеяться на чудо воскресения…
Нина — Брюсову. 3 июня 1906. Лидино.