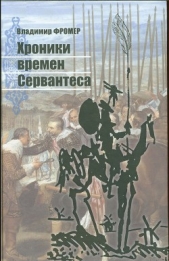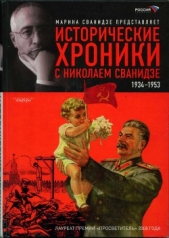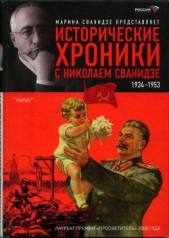Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта

Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта читать книгу онлайн
В новой книге известного режиссера Игоря Талалаевского три невероятные женщины «времен минувших» — Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская и Лиля Брик — переворачивают наши представления о границах дозволенного. Страсть и бунт взыскующего женского эго! Как духи спиритического сеанса три фурии восстают в дневниках и письмах, мемуарах современников, вовлекая нас в извечную борьбу Эроса и Танатоса. Среди героев романов — Ницше, Рильке, Фрейд, Бальмонт, Белый, Брюсов. Ходасевич, Маяковский, Шкловский, Арагон и множество других знаковых фигур ХIХ-ХХ веков, волею Судеб попавших в сети их магического влияния. С невиданной откровенностью Психея разоблачается в очах видящих…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А потом я уеду, скоро, скоро. Дай мне дней! Только дней!.. Я так тебя люблю. Без тебя больно, страшно, невозможно в этих стенах, где каждый цветок на обоях напоминает какую-нибудь мысль все о тебе, о тебе.
Ты ответишь? Я очень, очень устала, хочется тихого отдыха с тобой, твоих милых, милых ласк…
Брюсов — Нине. 16 мая 1906. Москва.
…Когда мы прощались вчера, у Тебя на лиде были слезы. Иначе почти не может быть при наших встречах теперь. Нам так легко соскользнуть в пропасть мучительного, она так близко. Но все же, чудом или усилием воли, во вчерашние часы, сквозь холод осеннего майского дня, сквозь его мглу и туман проскользнули какие-то светлые лучи. Все же Ты произнесла те слова, которые я не слыхал давно, давно (а может быть, никогда): «Мне хорошо, я счастлива». Нина, счастье мое! Знаю все свои вины перед Тобой, хотя и не такие горькие, как думаешь Ты, но достаточные, чтобы обличить и обвинить меня перед некиим судом. Знаю, что во мне, именно во мне были возможности бороться с мучительностями этого года, преодолевать, уничтожать их. Все знаю, все помню, во многом винюсь. Но не проклинай меня, Нина, потому что у меня есть то же оправдание, какое часто приводишь мне Ты. Если была мучительность, то она была и для меня. Если я делал невозможным счастье, то делал его невозможным и для себя. Ни с кем, ни с кем не был я счастлив, только с Тобой; ни с кем более не могу быть счастлив, кроме Тебя, и не буду. Каждая боль, которую я причинил Тебе, неизменно вонзалась и в меня.
Нина, милая, хорошая, маленькая. Все сказано нами. Все, и даже больше, чем все. В противоречиях, в трагических безысходностях душа измучилась. Нужно, чтобы пришло что-то новое, чтобы засветился какой-то новый свет, чтобы мы увидали выход из лабиринта. Бесплодно опять и опять бежать по тем же коридорам, в конце которых мы всегда встречали неизбежную и неодолимую стену. Да, Нина! расстанемся на этом холодном, майском, вчерашнем дне. На этой встрече, в которой тонким слоем неожиданной минутной радости была подернута мучительность целого года: словно под успокаивающим льдом замерли на миг бушующие волны. Ты знаешь, как и я: непрочный лед сломается и опять всплеснут высоко и страшно волны отчаянья и мучений. Нина! Нина! в эту могилу разлуки бросим нашу любовь (нашу любовь!), как в землю зерно. Если оно живо, оно даст росток и встанет новым цветком, пышным и прекрасным. Живое зерно не боится черной земли…
Нина — Брюсову.
19 мая 1906.
…Я еду уже за Смоленском, теперь около 10 ч. утра. Не умею писать в качающемся вагоне, но хочу, хочу быть с тобой, говорить, и эти строчки, что обращаю я к тебе, больше еще приближают мне тебя, милого, милого зверочка. Ты болен, и не знаю что, что с тобой, и не могу быть около тебя. И вот еду, — куда? зачем? Вчера я пришла от твоего письма в полное отчаяние; все это было на глазах у Сережи. Понимаешь….
Я хотела все бросить и не ехать, что бы из этого ни вышло. Потом тупо покорилась. Как-то ехала с Сережей на вокзал (он тут уже был ласков). И от того момента, как двинулся поезд, часов до 2-х ночи была в каком-то странном покое, без мыслей, почти без чувства. Но со светом пришли они, и опять со мной, и опять я думаю о тебе, и тревожусь, и боюсь смотреть в будущее. Тут уж еще новое мучительство, — вдруг ты расхвораешься серьезно и не будешь писать. Какой же смысл для меня в этих-то мучительствах в течение целого месяца. Ах, Валерий, напиши скорее, — эта мысль, что ты болен, сейчас надо всем. Не надо меня так мучить. Ты писал вчера «не разлюби, не забывай». Я улыбаюсь тебе в ответ, как улыбаются детям. Этот год огненным мечом прикоснулся к душе, и преобразилась она, и сама стала как огонь. Вот несколько часов только вдали я от тебя, и смотрю на прошлое иными глазами, чем в те дни, когда ты был близко и можно было позвать тебя. Смотрю серьезно, проникновенно. И вижу и понимаю, что мы не расстанемся, как расстаются «любящие». Иное для нас. Может быть, страшное, может быть, несказанно-счастливое впереди, — не знаю. Но знаю одно: тобой началась настоящая жизнь для меня, и я не могу никуда возвращаться, и я не знаю других дорог. Пусть будет любовь, пусть будет смерть, — только все это ты, от тебя, через тебя, через твою душу, через твои глаза увижу я и скажу да будет. Я никуда не хочу, ни к кому не хочу, не осуждай мою верность, полюби ее. Зверочек мой ласковый, как хочется обнять тебя, нежно, нежно целовать глазки, прижаться к твоему плечу. Хочется любить долго, без конца. Ах, хочется ясного, тихого, утреннего счастья! Было очень больно в этом году. Сейчас переживаю его последнюю боль. Еду… помню прошлый год. Граниты в окна смотрели, сосны, голубые озера улыбались как ласковые глаза… И ты… и ты….
Теперь небо серо, березы шумят как осенью, дождь… Надежды мои в темных платьях, робкие, грустные, не смеют смотреть вперед — не знают, не знают ничего…
Не сердись! Я не упрекаю. Мы оба замучились, мы сами не знаем, у нас надломились души. Но, милый, милый, я хочу твоей любви, я умру без нее!. Неужели же мы всё пережили, а ведь я чувствую такую свежесть и нетронутость любви. Я так еще много могу и жучиться, и ждать, и идти по трудным дорогам, только бы когда-нибудь, хотя недолго, хотя в миг, вырванный из твоей жизни, побыть с тобой так, как хочу, совсем вместе, близко.
Милый мой, милый!..
Я еду тихая, нежная с тобой, грустная.
Прости за плохой вид письма, очень качает.
Телеграфируй мне, что с тобой. Письма ждать долго. Я буду томиться, худеть, а за эти дни у меня руки стали совсем как «палочки».
Валерий мой, счастье мое, я твоя, совсем твоя, такая, какой ты меня любишь, с твоими глазами, с твоей душой.
Люби меня, не покидай меня. Рассказывай все о себе. Будем опять близкими без конца…
Брюсов — Нине. 19 мая 1906. Москва.
.. Не сердись на меня, что я позвонил Тебе по телефону и спросил, где Ты. Я написал было Тебе письмо в Варшаву, но у меня было предчувствие, что Ты в Москве. Я тоже в Москве. В самый день, когда мы выезжали, вечером, я вдруг расхворался, и, кажется, серьезно. Сильно болит грудь и голова. Едва ли это не плеврит. Отправляться в деревню было бессмысленно: сегодня надо идти к доктору. Наверное, на неделю буду я заточен дома.
Судьба сделала так, что мы еще несколько дней провели в Москве вместе, но я не знал, что Ты здесь, а Ты не знала, что я здесь. И когда я позвонил к Тебе, Тебя не оказалось дома. Я могу только одно, — этим письмом перед самым Твоим отъездом еще раз сказать Тебе: «прощай» и «люблю», «люблю» и «прощай»! И в моей памяти все же останется тот Твой лик, в миг нашего разлучения у двери, тот Твой любимый лик, потому что ты была хорошая, хорошая, без конца хорошая!
Прощай, Нина, милая, хорошая, маленькая! прощай до новой, лучшей, счастливой встречи, прощай до нашей новой жизни!
Не забывай меня, среди табль д’отов, кафе и загородных вилл, не разлюбливай меня. Не бросай меня, своего «зверя», сейчас больного, но глядящего на тебя издалека покорно и жалобно. Пиши мне оттуда, из того иного мира, пиши о себе всегда и всё… и читай, что я напишу Тебе! Верь одному: для меня нет счастья без Тебя. Эту истину мне хочется запечатлеть в Твоем сердце, и тогда мне не страшны никакие Твои упреки.
А потом, а потом — я люблю Тебя! Я Твой, Твой! Твой! Ах, Ниночка, помни меня…
— «Ну не пищи, зверь, что Ты так распищался!» Кажется, слышу Твои слова, вижу Твое лицо, Твои глаза, целую Твои руки.
Буду Твоим — навсегда! навсегда! не боюсь этого слова, повторяю его с упоением: навсегда!..
27 мая 1906. Москва.
…Нина! Нина! Нина! Чувствую какое-то опустошение в душе, словно она исчерпана, словно она выпита. Люблю Тебя, воистину люблю, но знаю сам, что не хватает сил, душевных сил осуществлять эту любовь. Мне нужно какое-то воскресенье, какое-то перерождение, какое-то огненное крещенье, чтобы стать опять самим собой, в хорошем смысле слова. Куда я гожусь такой, на что нужен! Машинка для сочинения хороших стихов! Аппарат для блестящего переложения поэм Верхарна! Милая, девочка, счастье мое, счастье мое! Брось меня, если я не в силах буду стать иным, если останусь тенью себя, призраком прошлого и неосуществленного будущего. Неужели в 32 года пережил я всю свою жизнь, обошел весь круг своих возможностей?