Сирота
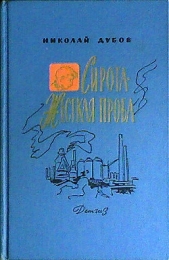
Сирота читать книгу онлайн
Роман в двух книгах `Горе одному`. Первая книга романа `Сирота` о трудном детстве паренька Алексея Горбачева, который потерял в Великую Отечественную войну родителей и оказался в детском доме.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Елизавета Ивановна насмешливо улыбнулась.
— Я знаю Горбачева, — продолжала Людмила Сергеевна, — и потому спокойна. Я уверена, через некоторое время, если его не дергать, он сам все расскажет, и мы убедимся, что ничего страшного нет…
— Извиняюсь! — резко сказал Гаевский. — Мы будем нянчиться с Горбачевым, а они — действовать? Они заметут следы, а когда Горбачев начнет откровенничать, будет поздно…
Людмила Сергеевна вспыхнула и едва не пустила ему "дурака".
Сейчас она видеть не могла его худую физиономию, со втянутыми щеками и лихорадочно поблескивающими глазками.
— Меня не удивляет… — сказала Елизавета Ивановна и подождала, пока все головы повернутся к ней, — меня не удивляет, что в этом деле замешан Горбачев и что директор дома, где он живет, проявляет такое спокойствие.
Она говорила неторопливо и даже как бы торжественно. И, хотя она ни разу не взглянула на Людмилу Сергеевну, та очень хорошо чувствовала и понимала, что Елизавета Ивановна торжествует.
— Я умышленно употребила слово «живет», а не "воспитывается", потому что, к сожалению, о воспитании в этом детдоме говорить не приходится. Я работала в этом детдоме — правда, очень недолго, но достаточно, чтобы познакомиться с порядками в нем. Горбачев очень испорченный подросток, и меня нисколько не удивляет его участие в этом скверном, а может быть — мы еще не знаем! — очень вредном и опасном деле. Мы, советские педагоги, не можем относиться безразлично к тому, что делают дети вне школы, вне нашего надзора. Более того: мы несем ответственность за то, что они делают! — значительно подчеркнула Елизавета Ивановна. — Я имела возможность наблюдать, с каким спокойствием товарищ Русакова относится к тому, что происходит в детском доме… Товарищ Русакова и сейчас спокойна. Вот такое спокойствие, а вернее — равнодушие, и приводит к подобным фактам… Но об этом — особый разговор, и происходить он будет не здесь. Что касается дела Горбачева, то, мне кажется, школа не может стоять в стороне от него, она должна высказать свое мнение по этому поводу.
Людмила Сергеевна возмущенно вскочила, чтобы ответить, но Галина.
Федоровна остановила ее.
— Пожалуйста, Яков Андреевич.
Гаевский встал, собрал в горсть рассыпающиеся волосы и прижал их к затылку.
— Допустим, товарищи, — сказал он, — что директор детского дома права и ничего такого, — покрутил он в воздухе растопыренной пятерней, — здесь нет. Посмотрим на факты, товарищи. Каковы эти факты? У нас для детей — всё. Им обеспечено счастливое будущее, о них заботятся, их учат, воспитывают. Нам поручили воспитывать молодежь, и мы ее воспитываем в духе беззаветной преданности. Так, товарищи? А тут появляется какая-то особая организация. Почему? Я думаю, это не случайно, товарищи!..
— Конечно! — раздался от окна раздраженный голос Викентия Павловича. — Развели зеленую тоску, вот они и начали выкомаривать…
— Что вы хотите сказать? — повернулся к нему Гаевский.
— То, что сказал. Скука у вас! Скука зеленая!
— Конечно, в нашей работе есть недостатки… Мы их сможем исправить при помощи педагогов, но я что-то не замечал, чтобы вы, Викентий Павлович, помогали мне в работе!
Решив, что Викентий Павлович сражен этой репликой, Гаевский опять собрал волосы и придержал их на затылке, собираясь продолжать. Но Викентий Павлович не был сражен. Сначала с удивлением, потом с возрастающим возмущением он слушал, как здесь произносили всякие страшные слова, сами их пугались и начинали говорить еще страшнее.
Гаевского он не любил и не уважал, решив после нескольких кратких бесед, что человек он ограниченный, малограмотный, прикрывающий малограмотность свою умением произносить по любому поводу трескучие фразы. Шифрованной записке Викентий Павлович не придал никакого значения и тотчас забыл о ней. Узнав, что из-за нее придется задержаться, пожал плечами и чертыхнулся: он устал и хотел есть.
Увидев теперь, как раздувают из нее дело, возмутился окончательно.
— Это в чем я вам должен помогать? — нахмурив густые седеющие брови так, что они стали торчком, сверкнул он глазами на "пустобреха", как называл про себя Гаевского. — Докладчиков из детишек делать? Они же у вас все докладчики! Этакие сопливые старички… Вот облысеют, животы отрастят, пусть тогда и становятся докладчиками. А сейчас они дети! Понимаете? Дети! Им нужно играть, веселиться, выдумывать, а не заседать…
— Па-азвольте! — почти закричал Гаевский, перебивая Викентия Павловича. Всегда бледное лицо его побледнело еще больше. - Па-азвольте, товарищ Фоменко! Это что же они должны выдумывать? Тайные организации? Шифровочки? И вы это одобряете, к этому призываете?.. А вы знаете, кто стоит за этой организацией, кто ее направляет? А что, если за ней шпана, уголовники или еще какой элемент?! Но допустим, там никого нет. Мы воспитываем подрастающую смену в свете вышестоящих указаний. А вот товарищ Фоменко не согласен. Мне лично неизвестны указания, что пионерская организация работает плохо. Советскую власть она устраивает, а товарища Фоменко не устраивает. Он считает, что пионерская организация, созданная советской властью, — подчеркнул Гаевский, — работает плохо. Вы понимаете, против чего вы выступаете?! — вздымая указательный палец, почти закричал Гаевский.
Викентий Павлович побагровел, левое веко задергалось.
Столкновения с демагогами вызывали у него приступы ярости. Он закрыл глаза, боясь, что она прорвется и сейчас.
— Молчите? — торжествовал Гаевский. — Нет, отмолчаться вам не удастся!
Ярость прорвалась.
— Молодой человек! — Викентий Павлович поднялся и сжатыми кулаками оперся о стол, — Я советскую власть изучал не по газетам. Я за нее воевал. Дважды. Я не против советской власти и пионерской организации. Я против трусов, которые ничего не понимают ни в той, ни в другой и той и другой мешают воспитывать детей… Вам бы не пинкертоновщину разводить, а поучиться и подумать, чего хотят дети, что им нужно. Но учиться вам лень, а думать вы не умеете и не хотите…
— Вам не удастся! — крикнул Гаевский. Он не знал, что такое пинкертоновщина, и потому оскорбился сверх всякой меры. — Вам не удастся замазать! Мы проявляем бдительность, а вы замазьтаете? Это вам так не пройдет! У вас еще спросят, почему вы их так горячо защищаете!..
— А вы и на меня дело заведите! Донесите на меня, как вам этот сопляк донес на Горбачева…
Галина Федоровна давно уже поднимала руку, стучала по графину:
— Викентий Павлович! Да что это такое?! Тише, товарищи!
Она попыталась сгладить, замять ссору. Конечно, сказала она, в деле Горбачева нужно разобраться в самый короткий срок. Горячность споривших свидетельствует о том, что они очень близко приняли всё к сердцу и, конечно, найдут общий язык.
Викентий Павлович сердито фыркнул, услышав о надеждах на "общий язык", и стал одеваться. Галина Федоровна извиняющимся тоном сказала несколько слов Елизавете Ивановне, потом подошла к нему.
— Ну что это вы скандал такой устроили? — укоризненно зашептала она. — Да еще при инспекторе. Какое у нее мнение будет о коллективе?
— Наплевать! — буркнул Викентий Павлович.
— Вам наплевать, а мне каково? Спросят не с вас, а с меня.
Неизвестно, как обернется для школы эта история, а вы еще затеяли ругань. Какими глазами я теперь должна смотреть…
Викентий Павлович, уже надевший пальто, схватил палку, будто собирался пустить ее в ход.
— Вы о себе думаете, — громко, на весь кабинет, сказал Викентий Павлович, — а надо, извините, о детях думать! Да-с! — и со стуком стал вколачивать башмаки в калоши. Порванная подкладка на заднике подвернулась, ботинок не лез в калошу, и Викентий Павлович рассердился еще больше: — О детях! Красивые слова говорить умеем, а доходит до дела — в кусты! О себе заботимся!.. — И, пристукивая палкой, вышел, не обратив внимания на оскорбленное лицо директора.
Толстую, узловатую палку он завел когда-то давно из щегольства и для солидности. Она не была ему нужна и теперь — слабым он себя не чувствовал, но к палке привык и всегда ходил с ней. Заново переживая только что разыгравшуюся ссору с «пустобрехом» и "трусливой клушей", как тут же окрестил он Галину Федоровну, Викентий Павлович сердито ерошил стоявшие торчком брови и колотил палкой по стволам деревьев, словно это были не стволы, а «пустобрех» и "клуша".


























