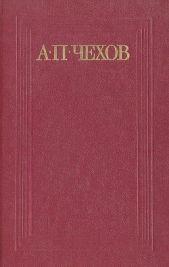Цирк Умберто
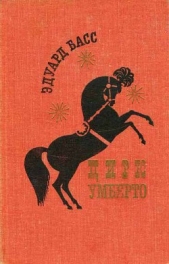
Цирк Умберто читать книгу онлайн
Роман чешского писателя Эдуарда Басса — одно из самых популярных произведений чешской литературы XX века. В центре романа — судьба деревенского мальчика, попавшего в цирковую среду и достигшего вершин возможной славы. Писатель сталкивает своего героя с трудными жизненными препятствиями, показывает процесс формирования его характера. Перед читателями оживает вся история чешского циркового искусства, красоту и поэзию которого автор тонко чувствует и передает.
Послесловие Малевич О.М.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но манеж привлекал не только тех, кто рисковал жизнью под куполом цирка. В цирке каждый в той или иной мере подвергался опасности, и если человек рисковал не самой жизнью, то, уж во всяком случае, — целостью рук и ног, успехом. Случайность подкарауливала на каждом шагу, поэтому любой заботился о том, чтобы все было в надлежащем порядке. И даже когда оставалось совсем мало времени, люди старались прорепетировать хотя бы главные трюки, лишний раз убедиться в надежности мускулов. Господин Альберт, старший из двоюродных братьев Гевертс, партерных акробатов, которые значились в программе как «Duo Bellini» [64] — те самые два господина, которые очаровали Караса-младшего на репетиционном манеже в Гамбурге, — выступал также в роли глупого Августа и выбегал на манеж, гогоча и улюлюкая, дабы убедиться, что резонанс в их шапито остался в Мангейме таким же, каким был в Дуйсбурге. Даже господин Сельницкий величественно пересекал шапито, чтобы собственноручно поставить на место бутылочку рома и предупредить, таким образом, возможные нарушения в своем мышлении. Единственно, кто не спешил в шапито, был Франц Стеенговер. Этот голландец, сбежавший от учителей, чтобы вкусить жизни в диких краях, стрелять тигров, убивать змей и продираться сквозь джунгли, поступил на службу в цирк, надеясь найти там хоть частицу той волшебной романтики, которая разожгла его фантазию гимназиста. Когда он первый раз вошел в шапито и в зверинец, его охватило горячечное волнение. Ему казалось, что его окружили все звери, населяющие джунгли Явы, Борнео и Суматры, и он, мингер Стеенговер, выступает перед ними как непобедимый охотник и прославленный зверолов, гроза хищников. К сожалению, выяснилось, что животные цирка Умберто не слишком-то почитают этого белокурого и очкастого повелителя джунглей. Однажды, когда он замешкался на пороге конюшни, стоявший неподалеку осел Гамильтон, едва ли не самое добродушное существо в цирке, брыкнул задними ногами, угодил Стеенговеру под лопатки и буквально вышвырнул его за дверь. Удар оказался ощутимым, спина ныла, но гораздо болезненнее было горькое чувство унижения — кузен директорши вылетел из конюшни и под громовой хохот конюхов плашмя плюхнулся на землю. Во время следующего визита бухгалтера в зверинец слон Бинго закусил его прекрасной флорентийской шляпой с зеленым бантом. Львица Коринна ударила голландца лапой и, хотя тот отскочил в сторону, все же успела разодрать шестицветный жилет, который собственноручно связала ему матушка. Какой-то попугай до крови клюнул беднягу в руку. А неделю спустя, когда Франц слонялся возле клетки с обезьянами, один из самцов, Боб, схватил его за тщательно повязанный белый галстук и с невероятной силой и криком подтащил к клетке; Стеенговер думал, что Боб задушит его. Сомнений не было — хищные звери в заговоре против повелителя джунглей и точат на него зубы. И после того как однажды в Гамбурге служащие сбежались в шапито на отчаянные крики и увидели там господина бухгалтера, в ужасе удиравшего от рогов Синей Бороды, борьба «Стееноговер versus [65] зверинец» была окончена, и с той поры нога мингера не ступала ни в шапито, ни в зверинец, ни на конюшню. Он погрузился в счета и цифры, сидел в своем вагончике и занимался статистикой. Вычислял, например, сколько вагонов овса скормит цирк Умберто за десять лет, какую часть земного шара объедет он за одно турне, сколько фургонов могли бы уравновесить слона Бинго, сколько кубических метров воздуха вмещает шапито и какой город могли бы заселить люди, посетившие цирк Умберто за год. В результате на стенах вагончика появились диковинные таблицы и диаграммы, которые Петер Бервиц просматривал с интересом и почтением. Но когда Франц Стеенговер стал подсчитывать сколько сэкономил бы цирк, выдавая липицианам вместо трех килограммов овса только два с половиной, Бервиц провозгласил, что кузен Франц свихнулся на математике и что господину бухгалтеру с его открытиями в области экономики лучше не попадаться ему, Бервицу, под руку, когда в руках у него шамберьер.
Таков был новый мир обоих Карасов. С рассвета до темноты, иногда до глубокой ночи, день был заполнен работой, одно следовало за другим в строгом, неизменном порядке, отнимая, казалось бы, все время, час за часом, И все же почти ежедневно случалось нечто непредвиденное, требовавшее немедленного вмешательства, экстренных решений, сообразительности и практических навыков. Керголец тем и славился, что умел найти выход из любого положения и не терялся ни при каких обстоятельствах. Его состоявшая сплошь из чехов бригада, эта железная гвардия цирка Умберто, получала всегда самые трудные, самые ответственные задания, связанные с изнурительной работой, но в то же время дававшие право на исключительное положение. Остальные служители относились к обитателям «восьмерки» с почтением, артисты обращались с ними как с равными.
Внешне как будто ничего не изменилось, и все же какой различной стала вдруг жизнь отца и сына! Антонин Карас быстро освоился и благодаря природной сметливости отлично справлялся со своими обязанностями: ухаживал за лошадьми, чистил слоновник, прислуживал дрессировщикам и наездницам, ставил и снимал шапито, играл в оркестре. Караса почти не было слышно, зато повсюду сказывалось вмешательство его умелых рук. Он не привык сидеть без дела, и разнообразная работа развлекала его. Когда на пути им встречалась какая-нибудь деревенская стройка и Антонин видел скромные леса, а на них каменщика с подсобником, он с интересом наблюдал за ними, но сожаления при этом не испытывал. У него было теперь свое, кровное дело, и он разделял стремление остальных работать быстро и так, чтобы на сделанное тобою можно было положиться. Даже во время переездов ему не хотелось терять времени попусту, и он брал у кучера вожжи, учась править тяжелым фургоном, А однажды в каком-то сарайчике ему попалась на глаза отличная сухая чурка. Недели две возился он втихомолку, никому, даже Кергольцу, не раскрывая своей тайны. Но в один прекрасный день он созвал товарищей, подмигнул им и указал на заднюю стенку фургона: в обоих верхних углах висели резные конские головы, а над притолокой — диск размером с тарелку, из которого выдавалась голова слона с клыками и хоботом. Работа была превосходная, вход в вагончик стал похож на портал небольшого летнего дворца. Жители «восьмерки» с восторгом рассматривали изделия Караса, а затем, одного за другим, весь цирк привели полюбоваться ими. Все нахваливали Караса, особенно был поражен Ар-Шегир, увидев деревянное подобие Бинго. Прежде чем произнести слова одобрения, он скрестил на груди руки и поклонился образу слона. Впоследствии, проходя мимо «восьмерки», он всякий раз бросал взгляд на притолоку и почтительно кланялся святому, которого Брама, держа в каждой руке по половинке солнца, создал во славу неба в первый же день творения.
— У нас тут до тебя служил один, тоже мастер на эти штуки, — предался воспоминаниям Венделин Малина, чуть ли не в третий раз осматривая головы, — кукол показывал и от отца научился вырезать разные фигурки. Золотые руки были у человека! Зашел он как-то к нам на фоаре [66] — не то в Сен-Клу, не то в Сент-Амане; я уж не помню, что там был за святой. И вот пристал к нашему старику: возьми меня в труппу, да и только, — дескать, я и чревовещатель, и две куклы у меня есть — целый номер; одним словом, мастер на все руки, артист с пеленок. Говорит — разошелся с отцом и женой, ширма да куклы, говорит, уже в печенках сидят, и все такое. Ну, старый Умберто и взял парня. Мы знали его и раньше, потому как частенько встречались с его отцом на фоарах. Это уже позже, когда мы поокрепли, патрон, бывало, скорее в мертвый город поедет, нежели на ярмарку. Что такое мертвый город? Так французы называют город, где нет ни базара, ни ярмарки, ни какой другой приманки. Да… Так вот этот парень так и остался у нас, звали его не то Клейнфиш, не то Клейнтир или Клейншнек… Нет, вру: Шнекерле [67] его звали, верно, Криспиан — Кришпин по-нашему — Шнекерле. Эльзасец. По-немецки шпарил не хуже, чем по-французски. Ну, стали мы ломать голову, где тут собака зарыта. Как-никак у старого Шнекерле было довольно солидное дело: кроме кукольного театра, он держал еще паноптикум знаменитых людей, сам вырезал с сыном; там тебе и коронованные особы — Наполеон, Луиза, султан и прочие рогоносцы; и знаменитые разбойники и убийцы, все в полный рост, как живые, и он на этом — ого! — как зарабатывал! Кроме того, у Кришпина была молодая жена, а он пожаловал к нам без нее — стало быть, вышло у них что-то серьезное. Но он — ни гугу, глядит сычом и знай собирает сухие чурки. Вагончик стал что дровяной сарай, хозяин бранится — у меня, говорит, маренготты [68] для цирка, а не для дров. А этот бирюк знай перебирает свои чурки да выискивает новые, и вдруг возьми да и выкини все, оставил себе одну, этакую большую, и давай вырезать складным ножом. Думаем, что это он такое мастерит? Глядим — шар. Здоровенный, больше чем в пол-локтя. Подчистил это он его и стал дырки сверлить да сердцевину через них выковыривать, покуда не получился внутри второй шар. Он и в том понаделал дыр и снова — выковыривать. Глядь, а внутри-то уже третий шар. Смекаете? Шар в шаре. А он все долбит да долбит. Мы так рты и разинули — сколько ж это он еще собирается?! И так уже три шара, один в другом, все диву дались, как это они туда попали. А Кришпин знай режет, и так пять лет подряд. Пять лет молчал как рыба, только на манеже утробой говорил. И вырезал он за пять лет семь дырявых шаров, один другого меньше, а внутри остался еще махонький кусочек дерева. За пять лет я его все ж таки малость приручил, так что он мне кое-что рассказал. Кончил это он седьмой шар и говорит: «А теперь я внутри вырежу этого гада, чтоб ему не вылезти оттуда, будь он трижды проклят на веки веков». Я ему: «Пресвятая дева, Кришпин, кого ты там вырезать собрался?» А он: «Кого ж еще, как не собственного папашу». Я думал, нас сей секунд гром разразит, выскочил из вагончика и больше к нему ни ногой. А дело вот как было. Сошелся этот самый Кришпин где-то в Пиренеях с гитаной, по-нашему, значит, цыганка, и привел девку с собой. А старый Шнекерле Андреас отбил ее у него. Здоровенный был детина, видный собой, носище что бурак, а усы как у турка, в ухе серьга, на жилете — цепочка, вся сплошь в талерах; куда Кришпину! Тот против него сморчок. И ко всему еще у старика водились деньжата; дукаты-то, видать, все дело и решили, клюнула на них молодка. Правда, венчаны молодые не были, а хоть бы и были, так что за помеха.