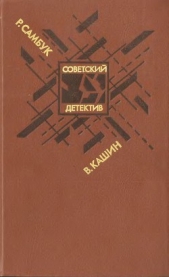Приговор приведен в исполнение

Приговор приведен в исполнение читать книгу онлайн
Украинский писатель Владимир Кашин хорошо известен широкому кругу читателей. В 1982 году в издательстве «Советский писатель» вышла первая его книга «Справедливость — мое ремесло», рассказывающая о работе сотрудников уголовного розыска. Во второй книге также повествуется о мужественных работниках милиции и прокуратуры, стоящих на страже социалистической собственности, об их нелегком, опасном труде. Центральным героем всех романов является инспектор уголовного розыска Дмитрий Коваль.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ох, Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович, а остальные факты, улики, которые, между прочим, вы же сами и обнаружили, — не без раздражения возразил следователь. — Вам ли, опытному оперативнику, это объяснять?! Естественно, что Сосновский выкручивается, юлит, пытается найти смягчающие обстоятельства и ускользнуть от отягчающих. Ведь преступление Сосновского характеризуется изуверством! Вот он и пробует ввести нас в заблуждение, отрицая, что готовилось оно заранее. Ведь именно то, что он взял с собою в лес молоток, и изобличает его до конца! Целиком и полностью! По-моему, улик более чем достаточно, и следствие выполнило свою миссию. Что же касается его одежды, то следов могло и не остаться. Такие случаи не исключаются. К тому же он мог оказаться в тот момент без рубахи, день-то ведь жаркий был, и кто знает, что они там делали. Впрочем, можно будет его еще раз допросить.
Подполковник Коваль молчал. Последнее слово принадлежало следователю прокуратуры.
Степан Андреевич Тищенко был молодой юрист, всего лишь несколько лет назад закончивший институт, но уже успевший высоко подняться по служебной лестнице. Он нравился Ковалю своей прямотой и какой-то неистовой нетерпимостью к преступности. Иной раз и оперативникам доставалось от Степана Андреевича, когда он с чрезмерной запальчивостью пытался сразу, с наскоку решить сложный вопрос и натыкался при этом на сопротивление старых, опытных работников розыска. По своему опыту Коваль знал, что с годами эта категоричность в выводах пройдет и следователь увидит правонарушителя уже не в одном измерении — только извергом, которого надо покарать, а преступление — во всей совокупности причин и обстоятельств, сложившихся в конкретных условиях времени и среды.
Ковалю нечего было возразить следователю прокуратуры. Улики доказывали вину Сосновского достаточно убедительно, и сомнения, которые появились у подполковника, после разговора с Тищенко показались самому Ковалю наивными. Мелькнула мысль: «А может быть, мне просто жалко талантливого художника, и эта жалость мешает правильно оценивать неопровержимые факты?»
— Папа! Ты что — уснул над тарелкой?
Коваль поднял голову. Наташа с сочувствием смотрела на него.
— Много работы? Неприятности? Ты стал рассеянный какой-то, словно сам не свой.
— Нет, — заставил себя улыбнуться Коваль. — Неприятностей нет. Но наверно, я на самом деле малость устал.
10
Весна началась для Сосновского с того дня, когда ожила соседняя дача. С самого утра был он в приподнятом настроении, а к вечеру, тщательно выбрившись и надев новый костюм, отправился к соседям, чтобы наконец-то познакомиться с ними. Чем ближе подходил он к даче Петровых, тем медленнее становились его шаги. У калитки остановился, отер пот со лба. Сдерживая волнение, поймал себя на том, что под наплывом нахлынувших чувств как бы автоматически фетишизирует предметы неживой природы: невысокий забор, калитка, дом в глубине участка — все казалось ему волшебным, одухотворенным присутствием Нины.
Наконец он отворил калитку и, ощутив, как замирает сердце, побрел по тропинке к крыльцу. Толкнул дверь, она оказалась открытой, и без стука вошел в сени. В доме было тихо.
Сосновский робко кашлянул.
— Кто там? — строго спросил мужской голос.
— Прошу прощения. К вам можно?
— Войдите.
Он шагнул в комнату и увидел Петрова. Управляющий трестом «Артезианстрой» сидел в кресле-качалке с газетой в руках.
— Добрый день! Извините, пожалуйста. Я — ваш сосед. Неудобно как-то — второй год рядом живем, а все незнакомы. Моя фамилия Сосновский. Юрий Николаевич.
— Очень приятно, — хозяин встал и протянул руку. — Петров, Иван Васильевич.
Только теперь Сосновский как следует рассмотрел своего счастливого соперника. Глубоко сидящие глаза и тонкие, плотно сжатые губы. Часто это признаки сильного характера. И стоило Петрову улыбнуться, как художник залюбовался им — столько мужской решительности, уверенности было в каждой черточке волевого лица, которое так и просилось на полотно. Они были, пожалуй, одного роста, однако Сосновский почему-то почувствовал себя рядом с управляющим трестом каким-то маленьким, щупленьким интеллигентиком: его сразу покорило обаяние силы, которую словно излучал Петров и которая гипнотизировала художника. Сосновскому стало не по себе: он ощутил, что в сравнении с мужем Нины явно проигрывает.
Повинуясь жесту хозяина, он опустился на диван, а Петров снова сел в кресло.
Несколько секунд управляющий молча и пристально смотрел на Сосновского. Художнику казалось, что этот человек пронзает его взглядом насквозь.
— Чем занимаетесь, Юрий Николаевич? — спросил наконец Петров. И вопрос его прозвучал так, словно Сосновский пришел наниматься на работу.
— Я художник. Пейзажист, — смущенно, словно оправдываясь, ответил он.
В глазах строгого соседа, как показалось Сосновскому, мелькнули добрые искорки.
— О! Так вам только здесь и жить! — одобрительно произнес Петров.
— Я здесь и живу. И летом, и зимой.
В комнату вошла Нина Андреевна. Петров познакомил Сосновского со своей женой. Появление Нины создало атмосферу непринужденности, и Сосновский даже удивился этому: так спокойно воспринял он близкое присутствие женщины, о которой мечтал все последнее время. Скованность и неловкость исчезли, словно Нина взяла его под защиту.
— Я только что приготовила кофе, — сказала она приветливо. — Вы любите черный? Или с молоком?
Они пили кофе, Сосновский рассказывал о своих картинах, сожалел, что уже смеркается и поэтому сегодня нельзя их показать, — ведь при электрическом освещении они не смотрятся. Постепенно художник окончательно акклиматизировался и осмелел. Он не сводил взгляда с Нины Андреевны, а когда Петров снова углубился в газету, неожиданно сказал:
— А я ведь давно знаю вас, Нина Андреевна! Целый год.
— Как же так? — удивилась она. — Вы меня знаете, а я вас — нет? — И в больших ее светлых глазах появилось выражение игривого недоумения.
Сосновский подумал, что если бы он рисовал голубя мира, то нарисовал бы его с такими глазами, как у Нины, — светлыми, бездонными, открытыми.
— Очень просто. Я даже нарисовал вас. — И Сосновский начал рассказывать Нине Андреевне, какую роль она, сама того не ведая, сыграла в его творчестве. Он говорил так увлеченно, что даже не заметил, что Петров отложил газету и тоже внимательно слушает его.
— Как в сказке! — негромко произнесла Нина. — Но не ошибаетесь ли вы, полагая, что вдохновляла вас именно я. Мне кажется, любой человек, которого вы увидели бы тогда в лесу, натолкнул бы вас на то же творческое решение.
— Нет, нет, только вы! — горячо запротестовал Сосновский. — На другого человека я, скорее всего, и внимания бы не обратил. Когда увидите картину, сами поймете!..
— Товарищу художнику виднее, — неожиданно вмешался в разговор Петров. — Не спорь.
Сосновский вздрогнул и сразу низвергнулся с небес на грешную землю: таким иронически-снисходительным тоном произнес управляющий эти слова.
— Возможно, конечно, — забормотал Сосновский, снова становясь в своем представлении маленьким и ничтожным. — Но… но так уж случилось, что в тот день я встретил на опушке именно вас…
Петров встал и холодно взглянул на художника. Тот понял, что пора уходить.
Он долго благодарил за прием, за кофе, хотя Петров все так же холодно смотрел на него, — настойчиво приглашал соседей к себе, в мастерскую.
— Зайдем как-нибудь, зайдем, — говорил Петров, провожая его до калитки. — Мы сюда на все лето переедем.
…Уснуть в ту ночь Сосновский не мог. Ему и легко было на душе, когда вспоминал беседу с Ниной, и в то же время как-то неловко, словно совершил он нечто предосудительное. И если бы не эта ложка дегтя, художник ощущал бы себя самым счастливым человеком на свете.


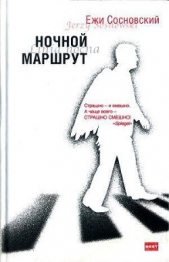
![Приведен в исполнение... [Повести]](/uploads/posts/books/105276/105276.jpg)