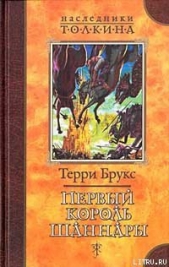Бардадым – король черной масти

Бардадым – король черной масти читать книгу онлайн
Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.
«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова. Ермолай, сразу признавший свои сапоги на нем, кинулся было их отнимать, остервенело закричал на человека, велел разуваться, но Жорка не дал, сказав, что все это разберет милиция, а пока ничего трогать нельзя, не положено.
Пойманного привели к сельсовету и там посадили на бревна, предназначавшиеся для ремонта крыльца и привезенные еще весной, так что теперь сквозь них росла трава и лопухи и кора была ободрана от долгого людского сидения. Топор, завернутый в газету, Жорка держал в руках и не отдавал никому до прихода милиции.
Весть о поимке убийцы разнеслась с быстротой невероятной, и всё новые и новые люди, бросая дела, бежали к сельсовету поглядеть на дикого мужика. С минуты на минуту ожидали Максима Петровича и Евстратова, а пока что стояли и дивились: что же это за человек и какими путями попал он в Садовое. Ему пытались задавать вопросы, но он, видимо привыкший к одиночеству, ошалел от многолюдства, сидел молча, и только слабая, не то застенчивая, не то идиотская улыбка временами, запутавшись во всклокоченной бороде, мелькала на его припухшем, по-детски округлом лице. …»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Голубятников согласно кивнул головой.
– А где он жил – помнишь? Где его дом? Знаешь его дом?
– А-а! – утвердительно выговорил Голубятников.
– Гляди, вспомнил, понимает! – удовлетворенно сказал Муратов Державину. – Не такой уж он дурак… Ну, так где ж Валерьян Александрыч жил? Его дом через дорогу от вашего. Да?
Голубятников закивал головой, радуясь, что понимает Муратова, и, вытянув руку, указал на стену против себя и куда-то еще дальше, за стену, – точно он сидел не в раймилиции, а в материной, бабки Ганиной хатенке, в Садовом, и показывал на улицу, через дорогу, на стоящий за нею чуть наискосок изваловский дом.
– Ла́бакы… ла́бакы… – вырвалось у Голубятникова из горла. Ладонями он изобразил что-то круглое, висящее в воздухе, и жестами показал, что он подносит это круглое ко рту и ест, и ему очень вкусно.
– Что – «лабакы»? – спросил Муратов. – Яблоки? Да? Хочешь сказать, у Извалова в саду хорошие яблоки растут, да? Небось мальчишкой за ними лазил? Да?
– А-а… Ла́бакы! Ла́бакы! – кивая, подтвердил Голубятников.
– Пиши! – быстро, решительно сказал Муратов Державину. – «На вопрос – знаком ли он с домом учителя Извалова, гражданин Голубятников показал, что знаком, верно определил местоположение усадьбы и дома Извалова относительно собственного дома и признался, что еще в детстве неоднократно проникал на усадьбу учителя Извалова с целью похищения яблок из его сада…»
– Ты ведь к Извалову не только за яблоками лазил, да? – обратился Муратов к Голубятникову тоном отнюдь не допросчика, а как бы сотоварища по проказам, завидующего ловкости и удачливости Голубятникова. – Ты к нему на чердак за вяленой рыбой лазил. Рыба там висела вяленая, лещи, лещи, вот такие, – отмерил Муратов на руке повыше кисти. – Хорошие лещи, да? Вкусные, правда? Потом ты в доме Извалова плащ брезентовый взял… плащ – помнишь? Да-да, это самое, плащ… вот-вот, на себя что надевается! – подтвердил он, одобряя сообразительность Голубятникова, который при словах о плаще стал делать такие движения руками, будто он что-то на себя надевает. – Еще ты зеркальце взял в доме – помнишь? На комоде оно лежало, маленькое круглое.,. Ага, значит, помнишь? Вот, вот, правильно, куда глядятся… Чтоб на себя поглядеть – зеркальце… Пиши! – повернулся он к Державину. – «Гражданин Голубятников, отвечая на поставленные ему вопросы, признал, что и внутреннее расположение дома было ему хорошо известно, и, скрываясь, как дезертир из рядов Советской Армии, на чердаке дома своей матери гражданки Голубятниковой… инициалы потом проставишь… а затем, после ее смерти, в прилегающих к селу Садовое лесах… тире… многократно, пользуясь ночным временем, тайно проникал в дом учителя Извалова и похищал с чердака вяленую рыбу, а также в одну из ночей… сентября… потом уточним… сего года похитил висевший на стене в первой комнате дома брезентовый плащ-дождевик и находившееся во второй комнате на комоде небольшое карманное зеркальце, а также сделал попытку проникнуть в комод, в котором девятого мая сего года находилась… Нет, не так! В котором накануне девятого мая сего года некоторое время хранилась денежная сумма в размере шести тысяч рублей…» Записал? Значит, – сказал Муратов доверчиво и приязненно глядевшему на него Голубятникову, – это мы установили: рыбу на чердаке ты ел, так? Плащ тоже взял, так? Зеркальце взял… Комод хотел открыть, да тебе помешали, вспугнули тебя…
Голубятников, соглашаясь и что-то мыча, охотно кивал головой.
– Ну и отлично, – сказал Муратов довольный. – А теперь давай вспомним, что ты делал в доме Извалова весной, пять месяцев назад, в мае…
Голубятников перестал мычать, глаза его остановились недоуменно. Весна… май… – это было для него непонятно. Для него давно уже не существовало календаря, названия месяцев, отсчета времени.
– В мае, в мае, весной… Когда травка росла, листики на деревьях вот такие, маленькие, были, – пояснил Муратов. – Когда твоя мамка еще жива была… Ага, вот-вот, хворала, хворала твоя мамка… Ты к Извалову тогда ночью в дом ходил? Верно?
Голубятников молчал.
– Ладно, я тебе помогу припомнить. Ты узнал, что у Извалова много денег, что деньги лежат у него в доме, так? Ты захотел эти деньги взять, да? Деньги тебе были нужны, потому что ты хотел уехать, далеко, и там где-нибудь жить, на воле, как все… На чердаке тебе надоело, верно? И еще ты думал: мамка стара, все болеет, того гляди – помрет, как тогда одному жить, кто кормить будет? Надо на такой случай припасти денег, чтоб тогда из деревни уехать… Думал так? Хотел уехать?
– А-а-тей… Ту-ту! – оживился Голубятников, заблестев глазами и взмахнув рукой, как уезжающий и прощающийся человек.
– Записывай! – бросил Муратов Державину.
Тот послушно заскрипел пером.
– Давай вспомним, как это было, тогда, весной… Все подробно. Ты дождался ночи, слез со своего чердака и пошел к Извалову в дом. Открыл калитку, а там – собака…
– Пиатка! – почти совсем внятно произнес Голубятников. Он слушал с интересом, не отвлекаясь вниманием; слова Муратова, как было ясно видно, вызывали в нем образные, картинные представления, похоже, что именно те, какие и старался вызвать в нем Муратов. При упоминании о собаке лицо его передернулось, исказилось нервной гримасой.
– Л-лая… л-лая абака! – сказал он со злобой, как бы заново переживая все испытанные перед Пиратом страхи. Оскалив зубы, он зарычал, показывая, как рычит и кидается Пират, и, задергавшись, замахал вокруг себя руками, показывая, как он отбивается от наскакивающей собаки, как бьет ее чем-то наотмашь…
– Верно, верно, – одобрил Муратов. – Но это ты уже совсем недавно Пиратку-то укокошил, а тогда, в ту ночь, в мае, по-другому ведь было. Пират лаять на тебя не стал, потому что ты ему дал что-то. Что ты ему дал, хлеб?
– Леб, – отчетливо и, главное, производя впечатление вполне осмысленного восприятия рисуемой Муратовым картины, произнес Голубятников.
Державин прошелестел исписанной страницей, торопливо ее переворачивая.
– Отлично, давай вспоминать дальше. Во дворе у сарая стояла дровосека, а в ней торчал топор. Так? Ты этот топор взял – помнишь? – и пошел с ним на крыльцо. Так я говорю? Дверь была на защелке изнутри, но ты эту защелку приподнял, приоткрыл дверь и вошел в сенцы. Так? Направо дверь на веранду была, а на веранде Извалов спал, на кровати. И еще с ним – гость, вдвоем они рядышком лежали… Ну, так?
Голубятников уже не улыбался, от детскости в его лице не осталось и следа, он слушал напряженно и, что поразило Муратова, точно в каком-то прозрении. Разум его, казалось, под влиянием сильного душевного волнения, в которое привел его рассказ Муратова, высвободился из пелены и пут и приобрел недостававшую ему ясность.
Предчувствие торжества возникло у Муратова. Конечно же, он все помнит! И даже не собирается запираться! Может быть, он и отперся бы, но он сломлен, поражен тем, что Муратов все о нем знает, как будто бы наблюдал собственными глазами. И еще – это просто один из тех редких случаев, когда творят злодейство в каком-то несвойственном нормальной человеческой психике первобытном простодушии, первобытной наивности чувств, при которых потом даже не хватает хитрости извернуться, защитить себя от правосудия, ибо нет даже понимания тяжести своего преступления и строгости кары, которой за это подлежат.
– Итак, ты вошел на веранду, – продолжал Муратов, пытливо следя за выражением лица Голубятникова и радуясь отражающемуся на нем процессу пробуждения сознания, – вошел и подумал: чтобы спокойнее искать деньги, надо Извалова и его гостя убить. А больше в доме никого нет: что жена Извалова и его дочка уехали в райцентр к родственникам, ты это знал заранее, видел это в прореху со своего чердака. А может, тебе и мать сказала. Сказала мать? Да? Или сам видел?
Голубятников сидел оцепенело; что-то совершалось внутри него, зрело, готовилось проявиться, – это было видно почти наглядно. Кожа на его лбу как-то напряженно собралась, взморщинилась, глаза сузились.