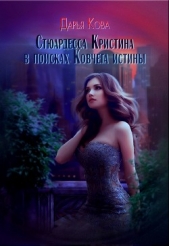Глубокие мотивы: повести

Глубокие мотивы: повести читать книгу онлайн
Остросюжетные психологические повести посвящены любви, любви сложной и неожиданной, ставящей перед героями неординарные нравственные проблемы. Все повести объединены одним героем — следователем прокуратуры Рябининым.
В книгу вошли повести «Шестая женщина», «Аффект», «Не от мира сего», «Быть может…», «Криминальный талант», «Неудавшийся эксперимент».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Почему сентиментальщина-то?
— Такой уж у него стиль…
— Я хотел спросить, почему сентиментальщина — плохо.
Сколько ей? Лет двадцать семь — двадцать восемь. Учительница младших классов. Но как она жёстко произнесла это длинное мягкое слово. Заклеймила того рыцаря.
— Сентиментальность всегда фальшива.
— Ну-у, — не поверил Рябинин. — Разве нет сентиментальности искренней?
Она подумала, рассматривая его, следователя, который почему-то спрашивал не о том, о чём должен бы спрашивать.
— Вернее, сентиментальность — это когда утрачена мера.
— Мера чего?
— Чувств.
— А сколько их надо?
Она засмеялась, вцепившись пальцами в пучок на затылке, — иначе бы рассыпался.
— Да я сама сентиментальная. Могу и заплакать.
Её глаза блеснули, мгновенно покрывшись микронной плёнкой влаги, подтверждая последние слова. Рябинин внимательно смотрел, не понимая внезапного перехода от смеха к слезам. Впрочем, не было никакого перехода: был смех, потом был стекольный блеск глаз.
— Можете заплакать… от чего?
— У человека всегда есть в запасе то, от чего можно поплакать.
— О! — вздохнул Рябинин.
Слишком умно для её возраста. Да и не только умно — такая мысль могла прийти лишь в страдающую душу. А страдают ли в двадцать восемь-то?… Не просто ли печалятся?
— От чего же страдаете вы?
— Да хотя бы от этих писем, — опять запела она, уже смеясь. — Вернее, страдаю оттого, что страдает Глеб.
— А почему он страдает?
— Неужели не понимаете?
Рябинин понимал. Да Рябинин бы не уснул, получай его жена любовные письма. Он не понимал другого — почему бы не уснул, получай она эти письма: ведь ничего бы не случилось оттого, что в почтовый ящик опускались бы конверты с излияниями незнакомого человека.
— Кого-нибудь подозреваете?
— Не-е-ет, — очень уж длинно пропела она, и Рябинин понял, за что могли её любить мужчины — за голос, в котором слились, как речки в реку, материнский жар, томная женственность и девичья прелесть. Лично он, Рябинин, если бы в неё влюбился, то полюбил бы только за этот неразъёмный голос.
— Стиль писем ничего вам не говорит?
— А что он должен говорить?
— Всё говорит обо всём, — неопределённо заметил Рябинин, чтобы не вдаваться в подробности. — Есть у вас знакомые мужчины по школе, институту, работе… и просто так?
— Разумеется.
— Сколько их примерно? Считая и тех, с кем давно раззнакомились.
— Ну, человек пятнадцать…
— Почерк никому из них не принадлежит?
— Нет, — решительно ответила она, коротко обрубив слово, да и слово-то само по себе короткое, если его не тянуть.
Рябинину показалось, что это слово его загипнотизировало, отключив от допроса, от этой женщины, от своего кабинета…
Мозг засыпал — Рябинин чувствовал, что засыпает. Что-то даже мелькнуло в этом цепенеющем мозгу… Уж не сновидение ли? Или прошлое пригрезилось?
Степь и дороги. Их экспедиционный грузовик, пыльный, как слон. И шофёр Максимыч, отменный водитель и горький пьяница, которого некем было заменить. Он вёл машину, ничего не соображая и держась за руль, чтобы не упасть на педали, и хорошо вёл, аккуратно притормаживая на колдобинах. Но стоило ему выйти из кабины, как Максимыч оседал на землю и моментально начинал храпеть.
Никакой сон не мог сморить Рябинина во время допроса. Почему же сейчас он отключился и осел на стуле, как Максимыч на земле? Разве допрос кончился? Или мелькнула догадка? Но одной догадки мало. Хотя бы из вежливости нужно ещё поговорить…
— Спасибо. — Рябинин зевнул. — Я его поймаю.
«У человека есть одна изумительная способность, которая делает его всесильным, — способность мечтать. Я могу оказаться в Сахаре, в Антарктиде, на Марсе… Но я там не оказываюсь. Я вообще не перемещаюсь по планете и космосу, потому что делаю другое — я перемещаю Вас. К себе в квартиру. И вот когда Вы оказываетесь здесь, рядом, у меня начинается фантастический пир, а скорее, пир фантазии.
Вот мы с Вами сидим на диване, под жарким торшером, и вдвоём читаем одну книгу. Я читаю, а Вы слушаете. Нет, Вы читаете, а я слушаю Ваш голос. И стихи слушаю, мы читаем стихи. Блока или детские. Я люблю детские стихи, про Муху-цокотуху или про какого-нибудь Бармалея.
А вот мы с Вами сидим на балконе. Точнее, Вы сидите в зарослях цветов, которых на двух квадратных метрах я вырастил видимо-невидимо. Я не знаю, какие цветы Вы любите. Уверен, что любите все, всякие, даже самые чахлые и сморщенные, вроде чертополоха или мать-и-мачехи. А когда придёт зима и мой балкон занесёт сугробом (на нём помещается ровно один сугроб), то я буду ежедневно приносить Вам букет живых цветов. Найду. Найду! Буду приходить с улицы, с мороза, и Вы будете осторожно, даже робко, брать цветы в свои маленькие тёплые руки и отогревать их своим дыханием.
По выходным дням мы будем что-нибудь делать руками. Например, я буду переплетать книгу или резать по дереву. Вы будете вязать или раскрашивать ёлочную игрушку. Хорошо сидеть рядом с Вами и делать приятную работу.
А по вечерам мы будем пить чай… За окном холодный ветер, за стеной ревёт телевизор, над головой танцуют, а у нас — тишина. Горит мягкая, уютная лампа. Вы разливаете чай, от которого аромат по всей квартире. Именно чай, а не кофе, не какао, не компот. У нас с Вами так уютно и так хорошо, моё счастье так ощутимо, что я даже боюсь…
Чего я, интересно, боюсь? Что оно пропадёт? Так ведь его и нет.
У человека имеется чудесная способность, которая делает его всесильным, — способность мечтать. Но у человека есть способность и просыпаться».
Глеб прошёл меж столов и кульманов, здороваясь с сотрудниками: с мужчинами за руку, с женщинами — улыбкой. В конце большой комнаты ему как начальнику сектора был отгорожен закуток, именуемый кабинетом. Он положил портфель на стол, стянул плащ, тяжко опустился в кресло и подумал, что сейчас утро, начало рабочего дня, а он устал — теперь уставал вечерами. И где же? Дома.
Глеб вытащил из портфеля узкий рулон миллиметровки и раскатал его на столе, придавив углы четырьмя медными грузиками. Вчера сидел за полночь, выпил пять чашек кофе, не давая спать Вере. Но эскиз не получился: нет конструктивного решения, да и грязно, словно карандашом водил пьяный. Видимо, кончилась для него домашняя работа, которую он любил за тишину, за уют, за тот же кофе, за продуктивность, когда карандаш свободно бегает по бумаге, еле поспевая за мыслью. Однажды Глеб даже выступил с полушутливым докладом на тему «Место, время и стимулы творчества», где доказывал, что время творчества — ночь, место творчества — дом, а стимул творчества — кофе, чёрный, натуральный, смолотый женской рукой.
Теперь всё кончилось. Осталась уютная квартира, остались ночная тишина и живительный кофе, и карандаш вроде бы ходил по бумаге, но мысль ускользала, куда-то просачивалась, как вода в песок. Нет, он хитрил: творческая мысль не просачивалась и никуда не впитывалась — её вытесняла другая мысль, которую он не мог ни логикой отринуть, ни волей придавить. Да это была и не мысль, а состояние; особое тревожное состояние чего-то ждущего человека. Но чего он мог ждать?
Глеб вспомнил, как однажды провёл отпуск в одиночестве на заброшенном хуторе. Он не боялся — в углу под усохшими ликами икон стояло ружьишко. Он не боялся, но какая-то тревога, которая обострила зрение и слух, не покидала его весь месяц. Тогда он слышал за окнами шелест опавших листьев, вороньи стуки на крыше, потрескивание балок и шуршание мышей… Он тоже ничего не ждал и всё-таки каждую минуту был к чему-то готов. Но там были лес и безлюдье. Тут же кипела цивилизация. Так к чему ж он готов здесь?
Фанерную дверь, казалось, распахнул ветер. Игорь Ращупкин поймал её, вжал в проём и подсел к столу, беззаботно улыбаясь:
— Старик, вторую субботу не заходишь. Работаешь или обабился?
— Всего помаленьку, — вяло ответил Глеб.