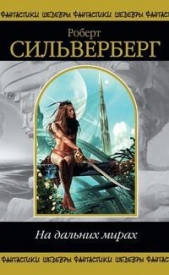Подходящий покойник

Подходящий покойник читать книгу онлайн
Хорхе Семпрун (р. 1923) — французский писатель и сценарист испанского происхождения, снискавший мировую известность, член Гонкуровской академии. Новая книга Семпруна автобиографична, как и написанный четыре десятилетия назад роман «Долгий путь», к которому она является своеобразным постскриптумом. Читатель проживет один день с двадцатилетним автором в Бухенвальде. В администрацию лагеря из гестапо пришел запрос о заключенном Семпруне. Для многих подобный интерес заканчивался расстрелом. Подпольная организация Бухенвальда решает уберечь Семпруна, поменяв его местами с умирающим в санитарном бараке молодым французом…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Культурный человек превратился в убежденного милитариста. Раз надо было сражаться, то уж на передовой, с оружием в руках и в милиции Дарнанда[35].
«Пусть с ним обращаются так же, как с остальными, так же, как со всеми врагами», — сказал отец Франсуа гестаповцам.
Возможно, ему казалось, что он следует моральным заветам стоиков.
Так что Франсуа допрашивали как всех, как любого другого — беспощадно.
Я смотрел на Франсуа Л. и думал, что так и не дождусь появления его души, его настоящего лица. Слишком поздно. Я начинал понимать, что смерть в лагере, смерть заключенных не совсем обычна. Это не просто — как любая другая смерть, как все смерти, насильственные или естественные, — скорбный или утешительный, но неизбежный конец. Смерть заключенных не приходит в конце жизни, как ее завершение. В некотором смысле после смерти на лице усопшего проявляется видимость отдыха, безмятежность. Когда умирает заключенный, не проявляется душа, не проступает истинное лицо из-под маски жизни, которую человек сам себе выбрал и которая его же раздавила. Смерть более не является ответом человека на вопрос о смысле жизни — ответом устрашающим или оскорбительным для каждого в отдельности, но понятным всем, точнее, всем, принадлежащим к роду человеческому. Потому что осознание конечности существования свойственно людям в той мере, в какой они человечны, в какой они отличаются от животного. Потому что сознание того, что жизнь конечна, и делает человека человеком. Представим себе на минуту ужас человечества, лишенного этого главного конца, обреченного на ужас бессмертия.
Смерть заключенных — например, смерть Франсуа, в эту самую минуту, совсем рядом со мной, — напротив, ставит бесконечные вопросы. Даже если она будто бы естественна — от истощения жизненных сил, она ужасающе своеобразна — и ставит под сомнение все знание человека о смерти.
Даже и сейчас — столько лет спустя, полвека! — достаточно вглядеться в фотографии, они свидетельствуют, насколько отчаянный вопрос о смерти остался без ответа.
Я посмотрел в лицо Франсуа Л., на котором так и не проявится душа, даже через час после смерти. Ни через час, никогда. Душа — то есть любопытство, страсть к риску, радость существования вместе с кем-то, жизни ради кого-то, возможность быть другим, в общем, иметь желания и планы на будущее, а также воспоминания, память о своих корнях, о своей принадлежности; одним словом — простым, расплывчатым, но понятным всем словом, — душа уже давно покинула тело Франсуа, опустошила его лицо, выела своим отсутствием глаза.
* * *
Der Wind hat mir ein Lied erzählt…
Снова голос Зары Леандер. Глухой, золотистый, чувственный.
В воскресенье, сразу после дневной переклички, ее голос, словно журчание горного ручейка, неожиданно заполнил столовую крыла С сорокового блока.
«Заполнить» — не самый подходящий глагол. Скорее, ее голос окружил, пропитал, заполнил собой пространство. Все смолкли, позволяя этому голосу расположиться в наших жизнях, овладеть нашей памятью.
И снова он:
Der Wind hat mir ein Lied erzählt…
Von einem Glück unsagbar schön…
Слова другие, но песня — та же самая, та же любовь, та же грусть: жизнь. Настоящая жизнь за колючей проволокой, до лагеря, эти назойливые и драгоценные пустота и легкость, которые и были жизнью.
Только что Себастьян Мангляно побежал в спальный отсек барака к приятному воскресному одиночеству великой мастурбации, la gran paja.
Побежал, смеясь в предвкушении удовольствия.
Сегодня, признаюсь, голос Зары Леандер не возбуждает меня. Впрочем, у меня есть смягчающие обстоятельства.
Отдаваясь на волю этого роскошного, пленительного, шелковистого голоса, я думаю, что бы сделал Себастьян Мангляно в подобной ситуации.
Просыпаясь, он всегда давал мне отчет о поведении своего Александра Великого.
Это происходило в умывальне, во время утреннего туалета.
У нас была привычка — дисциплина для выживания — вскакивать с первым свистком, бросаться в умывальню с голым торсом, босыми, до того, как все встанут и начнется столпотворение. Вода ледяная, суррогатом мыла хорошенько не отмоешься, но ритуал необходимо было соблюсти. Надо было скрести лицо и тело, подмышки, яйца, ноги под холодной водой песчаным мылом. Долго, сильно, до красноты, чтобы смыть грязные ночные барачные запахи.
Отказаться от этого обряда, который мы тупо, даже не задумываясь, совершали каждое утро, было бы началом конца, началом ухода, первым знаком близкого поражения.
Когда мы замечали, что кто-то пренебрегает утренним туалетом и его взгляд затухает, надо было действовать немедленно. Говорить с ним, заставить его говорить, снова пробудить интерес к миру, к себе самому. Отсутствие интереса, отсутствие любви к себе, к некой идее о себе становилось первым шагом по пути, откуда не возвращаются.
Когда я оставался один, когда Мангляно, мой сосед по нарам, работал в ночную смену в сборочном цехе завода Густлов, я все равно бросался в умывальню с первым свистком, с первым ревом Stubendienst в спальном отсеке барака.
В такие дни я читал на память стихи по-французски. Очень подходящие к обстоятельствам строчки Рембо: «Под утро, летнею порой, / Спят крепко, сном любви объяты…»[36], — тешили мое неистребимое чувство юмора.
Как вел себя Мангляно, оставаясь в одиночестве на нарах, когда я работал в ночную смену в Arbeit, я, естественно, не знаю. Но когда мы просыпались вместе, когда наши часы работы совпадали, мы оба бежали в ванную. В такие дни мы во все горло орали испанские стихи гражданской войны — Рафаэля Альберти, Сесара Валльехо, Мигеля Эрнандеса. Для нас это было что-то вроде зарядки перед началом нового голодного дня на пороге смерти. Мы заряжались не только бодростью, но и гневом — а гнев согревает.
Так вот, Мангляно постоянно держал меня в курсе насчет состояния своего Алехандро. В те дни, когда он признавался мне, что ему снились богатые событиями эротические сны и Алехандро твердел, я подкалывал его, уверяя, что ничего не чувствовал, даром что ложе наше куда как узко. Он возмущался, что кто-то ставит под сомнение торжество его мужского достоинства.
— В следующий раз, когда я буду дрочить, — восклицал он, — я тебя разбужу, и ты мне отсосешь! (Te despierto у me la chupas!)
— И не мечтай, — парировал я. — Тебе не обломится! (Ni sonarlo: no te caera esa breva!)
В общем, мы оба пытались начать новый день по возможности в бодром расположении духа.
Der Wind hat mir ein Lied erzähl
Von einem Herzen, das mir fehlt…
Я слушал голос Зары Леандер, он убаюкивал меня, и я не противился.
Вытянувшись рядом с Франсуа Л., я готовился пережить эту ночь, которая могла стать ночью моей смерти. Я имею в виду — официальной, административной смерти, которая приведет к исчезновению моего имени. Меня волновали мысли о воскресении, о том, как вернуть мою настоящую личность после того, как я узурпирую имя Франсуа.
Обычно, когда нары были на двоих (в Малом лагере в бараках для инвалидов и мусульман иногда лежали по трое-четверо на одних-единственных нарах), мы ложились валетом. В таком положении тела лучше приспосабливались друг к другу, можно было выиграть немного места.
Но в санчасти я лег ногами в ту же сторону, что и Франсуа, чтобы видеть его лицо. Чтобы распознать на его лице знаки жизни и смерти.
Он прибыл в Бухенвальд из Компьеня с тем же конвоем, что и я. Может быть, даже в одном вагоне, в этом нет ничего невозможного. Во всяком случае, история того путешествия, которую он мне рассказал, очень походила на мою. Ничего удивительного, впрочем, все наши истории похожи. Мы все проделали один и тот же долгий путь.