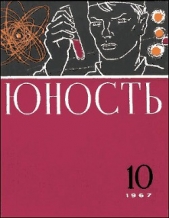Светозары
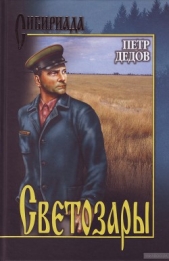
Светозары читать книгу онлайн
Сколько бы ни писали в разное время о Сибирской земле, да всё по-разному. Потому как велика и неповторима Сибирь, и нет в ней двух похожих уголков. Можно всю жизнь путешествовать по бескрайним степям, по тайге и болотам, а все равно каждый день открывать землю эту заново!
Роман известного сибирского прозаика Петра Павловича Дедова во многом автобиографичен и оттого еще более интересен и достоверен в раскрытии самого духа Сибирской земли.
Книга издана к 75-летию писателя..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Твои бы речи, да богу навстречу, — мрачно прогудел Гайдабура. — Скубём, скубём по одной былке, а конца трудно побачить.
— Я же сказал: шабаш! — Глиевой поднялся, на коротких ногах заходил по конторе. — Я вчера рапортовал райкому, что наш колхоз в целом окончил заготовку грубых кормов.
— Это як же надо понимать? Ведь наша бригада ще…
— Так и понимай! — оборвал бригадира председатель. — Если будут интересоваться из района, всем отвечай: сенокос закончен!
— А если приедут и побачут, шо мы еще косим?
— На время прекратить!
— Как — прекратить? Почему? Уборка ж скоро навалится, a мы сенокос не закончили. Счас же каждая минута… — В подобных случаях, когда дядя Яков видел вопиющую несправедливость, он терялся, становился совсем беспомощным.
— До тебя, как до жирахва — на третий день доходит, — сказал Глиевой и стал терпеливо объяснять: — Мы брали обязательство к такому-то сроку закончить сенокос. Так?
— Ну, так. Дак це ж не наша вина, шо травы подошли поздно…
— Верно. Но ведь и там не виноваты, — Глиевой ткнул пальцем в потолок.
— Там виноваты! — убежденно сказал дядя Яков. — Бог-то, видать, занялся совсем, а боженята, едри их в копалку…
— Да не про бога я тебе! — закричал Глиевой. — Ему хоть мочись в глаза, а он — божья роса! Про вышестоящее начальство я тебе толкую. Начальство-то это рази виновато, что у нас травы не вовремя выросли? Ему, начальству, еще выше надо рапортовать об окончании сенокоса, в область то есть. А областному начальству надо докладать еще выше. Дошло теперь?
— Нет, не дошло, — набычился дядя Яков. — Як же докладать и рапортовать, шо сенокос закончен, коли вин не закончен?
Глиевой всплеснул руками, завел к потолку глаза:
— Да пойми же ты, дубина стоеросовая, в этом же главная суть соревнования!
— Штобы брехать?
— Штобы создавать напряжение! Ну, не закончил там кто-то чего-то малость — завтра закончишь, не беда! Главное — доложить вовремя.
— Не, це не главное, — с хохлятским упрямством стоял на своем Гайдабура. — Главное — шоб скот зимой с голоду не околел…
— Тебе хоть кол на голове теши!
Мужики закурили. Дядя Яков стряхивал пепел себе под ноги (имел такую привычку), щурился на копчик цигарки, пуская дым сквозь обвисшие усы, — думал. Глиевой развалился перед ним, откинувшись на спинку стула, глядел на него в упор коровьими немигающими глазами.
— А зачем це нужно начальству? — встряхнулся наконец Гайдабура.
— Чего?
— Ну, шоб докладали ему, рапортовали… Яка ему польза от нашей брехни? Или там этого не чуют?
— Ну, вот што!.. — Глиевой опять вскочил, мелкими шажками забегал из угла в угол. — Этак мы с тобой знаешь до чего договориться можем? Давай так: сказано — выполняй. Никаких сенокосов! Закончили сенокос! Вчера еще!
— А пошел-ка ты знаешь куда? — дядя Яков начинал раскаляться. — Мы шо — быстро так жизнь нашу наладим, коли будем сами за собой вокруг столба гоняться? Хоть как себя подстегивай — все одно на месте… Ни-и! Уйду я у свою кузню. Ну вас к бису з вашей хвилосохвией!..
5
Конец июля. Макушка лета. Какая-то неделька-другая относительно свободного времени, которое называют у нас междупарьем; закончена пора сенокоса, а пора уборки хлебов еще не настала.
И наступает в эту пору в природе заметное расслабление. Этакая усталость, дремотная умиротворенная тишина. Солнце начинает сникать: уже не может палить с прежней яростью. Деревья, травы устали расти и цвести. Линялое небо все чаще затягивается пепельной мутью, сквозь которую солнце смотрит рассеянно и печально. Травы, листья на деревьях сделались жесткие и сухие, обрели какой-то синеватый блеск перекаленного железа.
И легки, удивительны стали ночи! Вместе с духотою исчезает всякий гнус. Степь все чаще омывается прохладой. Ее, эту прохладу, даже и ветром не назовешь: так, еле уловимое дыхание, веяние неба перед утренней зарей. Чуткие листья осин чуют это веяние. Они вскипают серебристой рябью и длинно вздыхают: о-х-х-х… Лошади тоже чуют, — фыркают и нервно подрагивают кожею.
Лошади в эту пору начинают чего-то пугаться. Необычной тишины ли или неясных лунных теней, что медленными волнами ходят по степи. Такие большие и сильные, кони испуганно прядают ушами и жмутся к крохотному пастушьему костерку, где одиноко кемарит какой-нибудь сопливый парнишка.
В тихих неярких днях, и бархатных мягких ночах отдыхает, нежится земля. Это настроение покоя в природе, видно, передается и людям. Теперь вечерами, после работы, после управы дома по хозяйству, часто собираются на завалинках бабы, а где-нибудь на бревнышках — мужики.
Эх, такие ли, помнится, сборища были до войны! А теперь и мужиков-то на всю деревню осталось — полтора калеки.
Мы, подростки-безотцовщина, любили поотираться возле мужиков. Прямо как магнитом притягивают нас сладко щекочущий ноздри махорочный дым, ядреным запах мужицкого пота, хриплые басовитые голоса, соленые шутки… Так нам не хватает всего этого дома! И мы начинаем приставать, канючить:
— Дядя Вань, расскажи чо-нибудь про войну!
Но вспоминать о войне мужики почему-то не любят. Они хмурятся, много курят и мало говорят…
Но, бывает, выползет на бревна какой-нибудь древний старикашка и внесет некоторое разнообразие.
Што, соколики, невеселы,
Што носы свои повесили? —
проскрипит надтреснутой фистулою.
— Дак вот, тебя дожидаемся, — оживятся мужики. — Без тебя — какое веселье? Ни сыграть, ни сплясать некому. У нас же на весь коллефтив — три ноги да четыре руки.
— Ето у мене не заржавеет! — раздухарится дедушка. И впрямь выпнется с костылем на круг и начнет трясти портками:
Ех, яблочка,
Ды, с горки скокнула,
А мужик захохотал —
Брюха лопнула!
Но мужики не шибко-то хохочут. Они невесело шутят:
— Тебя бы, дедко, в ансамблю!..
— Это ишо на трех ногах, да уже так козлыкает. А погоди, доживет — на четвереньки встанет, тада вообще всех плясунов забьет!..
На дороге послышится скрип, и что-то странное покажется в темноте: не то — овца, не то — собака.
— Сашка навроде… — скажет кто-нибудь из мужиков.
— Подруливай к нам, Санек!
Подъедет на своей инвалидской тележке безногий Сашка Гайдабура. Он, как всегда, пьяный, бормочет что-то себе под нос, все кого-то ругает.
— С-сволочи, — заикаясь, выговаривает он, — и-идиоты!..
— На кого ты, Саня, так?
— Все оне на одну к-колодку сделаны, с-сучки мокрохвостые! — хрипит Сашка.
Его понимают и жалеют. До сих пор не может он позабыть свою жену Тамарку Иванову, сбежавшую куда-то с Сенькой Палкиным.
— Э-эх, милай! — вздохнет кто-нибудь. — Не баб тут винить надо, а Гитлера… Думали, прикончим его — и дело в шляпе. Ан не тут-то было: скока ишо отрыгаться будет!..
Посидят вот так, поговорят мужички, — и разбредутся по домам. И стихнет все кругом. И станет слышно за две версты скрип коростеля в степи. А то на другом конце деревни сорвется у кого-то тоскливая девичья припевка…
6
В это затишное время междупарья косили мы с мамой ночами сено для своей коровки. Разрешили наконец и колхозникам малость поработать на себя. Но у других проще — можно косить и днем, в обеденный перерыв, и вечером, после колхозной работы. У нас сложнее. Вечернюю дойку мама начинает поздно, когда пригонят с поля колхозное стадо, да и у меня вечерами самый разгар: надо замерить и подсчитать все дневные работы в бригаде.
Ничего, и ночью косить можно. Благо, что стоит полнолуние, — светло, не жарко, не ноют над тобой всякие там кровососы. И огрубевшие уже травы ночью не такие жесткие, — отпотеют маленько, отволгнут, становятся хрусткими, податливыми. Идешь и идешь на поводу у литовки, кладешь и кладешь рядок за рядком, — и так втягиваешься в однообразный ритм работы, что не надо напрягаться, не надо думать: тело само делает свое дело.