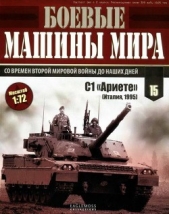По поводу одной машины

По поводу одной машины читать книгу онлайн
Тема романа Джованни Пирелли «По поводу одной машины» — человек в мире «индустриальной реальности». Книга проблемная в полном смысле слова, в ней переплетаются элементы романа и художественной публицистики, острой, смелой, колючей, в чем-то пристрастной и односторонней, но в высшей степени актуальной. Герои книги — рабочие, техники и в большой мере — машины. Пирелли пытается поглубже заглянуть в самую суть человеческих и социальных проблем, возникающих в «неокапиталистическом» обществе. Настроен писатель мрачно и пессимистично. Сегодняшняя «индустриальная реальность», такая, какой она сложилась в Италии, вызывает в Пирелли протест, недоверие и злую иронию. И в то же время наряду с разочарованием и скепсисом мы чувствуем душевную боль писателя, его острую жалость к людям. В книге много спорного; это насквозь политизированный роман, очень интересный, но очень жестокий и крайне пессимистический. Сильно преподнесена в романе тема «хозяев». Глава фирмы, о которой идет речь, обладает поистине мертвой хваткой. В разговоре с одним из своих инженеров он заявляет, что первая фаза промышленной революции закончилась, начинается вторая, и теперь успех зависит не от госдепартамента или Международного банка, но от энергии и инициативы самих промышленников и высшего технического персонала, а между тем промышленники еще не создали внутри своего класса, а также в международном масштабе авангард, сознающий подлинные свои функции. Опубликовано в журнале «Иностранная литература» №№ 6–7, 1968
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По-моему, то, что я сказала, можно отнести и к таким, как Кишка и д'Оливо. По-моему, им еще хуже, чем нам. Мы, по крайней мере, твердо знаем что когда-нибудь станем людьми в полном смысле слова, а им и это не дано. Я не упомянула Котенка… О нем я скажу особо, чтобы подчеркнуть, что начальник в девяноста девяти случаях из ста не может пойти в гору, если он не сука. Вот, например, Бонци: поначалу казалось, что он — счастливое исключение. Настолько умен, что понял: если заставить шевелить мозгами рабочих, то и у начальника голова варить лучше будет. Но застопорило. Его купили. Чтоб не шебаршился. Не хватало еще, чтобы мы стали шушукаться по поводу того, как и кто его купил. Это все ерунда. Об Иуде мы знаем с трехлетнего возраста, но кому какое дело до имени и отчества того, кто его подговорил предать Христа?
С Берти получилось иначе. Я не говорю, что он был неподкупен. В свободном мире все продается и покупается. Зависит только от спроса и предложения, Но Берти незачем было покупать — ему нечего было продать. Можно ли быть честным вообще, честным и с рабочими, и с хозяевами? Это все равно что пытаться сберечь капусту и накормить козу. Стоя посередке — между пролетарскими низами и верхами, всякими там дирекциями, правлениями, президиумами, — разве это возможно? Посередке — воздушный шарик с маркой «Ринащенте»: плавает в воздухе — красота! А в полдень, глядишь, он уже сморщился, к вечеру вовсе обмяк и — привет! Бедняга, которого мы хороним сегодня, попав на «Свалку», уже не мог остановиться, покатился под горку. Ему, как прокаженному, хотелось укрыться от людей, забиться в угол и умереть. И я его понимаю. Хотя все, что я говорила о заводе, правда, чистая правда. Вся наша жизнь — в нем, и это тоже правда. Иначе говоря, нет нам жизни без завода. Без нашего завода, без «Ломбардэ». Когда завод действительно будет нашим, когда человек будет знать, что завтра, в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу и в субботу (а если нужно будет для социализма работать семь дней в неделю, пятьдесят шесть часов, то и в воскресенье) его номерок никуда не денется, если он не совершит предательства по отношению к товарищам (только так, а не наоборот), — вот тогда постепенно мы заживем лучше и во всем остальном. Не будем ссориться, завидовать, сквернословить — не будет такого свинства; женщин приравняют к мужчинам; и дети будут расти в семье, а не в клоаке, куда мы изрыгаем весь запас ярости, досады и унижений, ядом скопившийся за восемь, девять, десять часов работы в цеху. Вот тогда, может быть (подчеркиваю: может быть), и смогут люди ограничиваться тем, чем ограничивался Берти — быть честным. (Только неизвестно, кто из нас тридцати, стоящих у этой могилы, доживет до того дня; я-то наверняка не дотяну.) Тогда такие, как Гавацци, с ее великими и малыми комбинациями, с ее бестолковым криком, с ее вечным «что бы вы делали, если б не я», будут не нужны. Более того; таких, как она, надо будет отправлять куда-нибудь подальше… На «Свалку»! (Потому что первое время при социализме без «Свалки» тоже не обойтись.) Если, конечно, хозяева не поспешат сделать это раньше. Но вряд ли. Их ведь тоже мучают разные страхи, от которых не так-то легко избавиться (Да, да, на их долю тоже приходится своя порция страха, и не испытывают его только безголовые). Маловероятно, что они осмелятся выкинуть с завода такую, как Гавацци. Вот Берти — того пожалуйста, в два счета! Я за это на него особенно зла, что дал себя вышвырнуть. Ладно, если бы его уволокли, рассвирепев, четыре дюжих охранника… Так нет же! Ушел на собственных ногах! Не закричал: «Караул! Убивают! Помогите!» — а поплелся, поджав хвост. Не имел он права уходить молча, словно грешник в преисподнюю, осужденный всевышним на вечные муки.
Еще я хочу сказать вот что — и на этом давайте закончим, иначе нас здесь кондрашка хватит: если мы не уважали Берти при жизни и вдруг начнем уважать сейчас, когда он превратился в прах, это значило бы, что мы нисколько не выросли и ничем не отличаемся от ханжей и лицемеров, от богачей и лакеев. Вам, женщины, уткнувшиеся носом в платки, я скажу так: если у вас насморк, то ладно, если же нет — прекратите! Нечего оплакивать мертвого Берти, раз вы пальцем не пошевелили, чтобы помешать ему умереть. И большая к вам просьба, трудящиеся Музочко! Кончайте свое дело поскорее!
XXXII
Он ждет поодаль, за оградой. Фигура его на фоне непромокаемого тента, возле прилавков с хризантемами и анемичными гвоздиками, вписывается в пейзаж. Не будь он единственным человеком в кожаной куртке, с мотороллером, никто бы в воскресной суете Музокко, так же как у ворот «Ломбардэ», его и не заметил.
Марианна (подойдя к нему): — Я замерзла.
Он: — На заднем сиденье не холодно.
Он ей это уже говорил. Он сказал ей это еще в первый вечер, когда ждал у заводских ворот. Марианна думает: как это было давно и какой она была тогда девчонкой.
Сальваторе: — Ты плохо выглядишь.
— А ты не смотри.
— Если сядешь сзади, не увижу. Садись, отвезу тебя домой.
— Я знаю, что не отвезешь.
— Сначала прокатимся.
Она села:
— Не надо меня катать, Сальваторе.
Сальваторе едет так, словно их только двое — он и «Ламбретта». Словно забыл, что за спиной у него девушка. Он сидит прямо, застыл, как карабинер на коне, сосредоточенно и удивительно быстро маневрирует, переключает скорость, тормозит. Он ездит уверенно и в то же время осторожно, строго соблюдает правила уличного движения, но когда рядом автоколонна, возле которой он выгляди! мошкой, когда мимо мчится поток автомобилей, врывающийся с боковой трассы, он становится напористым, агрессивным. Каждые сто-двести метров хочется ухватиться за него, закричать, но ведь он ставит условием: его девушка не должна знать страха. На «Ламбретте» командует он.
— Сальваторе…
Он не слышит. Или не хочет, чтобы с ним разговаривали, когда он за рулем?
Марианна сунула руки к нему под мышки. Ей стало удобнее. Теплее. Как это Гавацци сказала: «Если бы завод был иным, нашим, то иначе жилось бы и в семье». Боже мой, зачем думать о заводе! Зачем думать о семье. Зачем думать вообще. Лучше после… Обсудить все это потом, с Сальваторе. После чего? Нет, лучше и об этом не думать. Неужели нельзя ни о чем не думать? Ведь когда, закончив одну операцию, перед началом другой сидишь на скамейке… Довольно! Довольно думать о Гавацци, о заводе, о… Она с Сальваторе, больше для нее ничто не существует.
— Сальваторе…
Рядом зажглись огни; тут же цепочкой загорелись другие. Сгустившийся мрак плотнее подступает к желтым конусам уличных фонарей, к неоновым вывескам и витринам, к автомобильным фарам и сигнальным лампочкам. Наступил тот час зимних сумерек, когда город украшает себя мишурой, когда жизнь течет в атмосфере неопределенности, по двум руслам, в двух переплетающихся между собой планах — дневном и вечернем. По правде говоря, особого оживления на их пути к площади Флоренции, по проспекту Семпионе и на пересекающих его улицах, не заметно, как и на изгибающейся дугой улице Кановы, куда Сальваторе врывается (при мокром-то асфальте!), как метеор. Или оживленно только в тех местах… (Какое бы слово употребил Сальваторе?) Интересно, он туда часто ходит? Всегда с одной и той же или с разными? Бедняги, испортили себе самое прекрасное, что есть в жизни… Она думает: Маркантонио был бы мной доволен. Она думает: если бы Сальваторе сидел напротив, я бы так себя не вела. Тем временем руки ее продвинулись дальше. Не по ее воле, а сами собой, от тряски. Одна рука дотянулась до лацкана куртки: это предел, дальше нельзя. Или можно? А вдруг это ему мешает? Разве что сейчас, ненадолго, пока они стоят перед светофором…
— Сальваторе, скажи, тебе хорошо?
Возможно, ему и хочется обернуться, подать знак, но нельзя. Возможно. Ему надо держать голову прямо и неподвижно, одним глазом смотреть на красный свет впереди, другим — на зеленый свет поперечной трассы. Руки — под прямым углом, пальцы впились в руль. Чтобы, как только зажжется желтый свет, дать газ и сорваться с места, всегда — в числе первых, точно, секунда в секунду. Самый строгий регулировщик не придерется — переднее колесо пересекает белую линию в момент появления зеленого света, ни секундой раньше или позже. То же повторяется у следующего светофора. Тем временем некая правая рука пробралась еще дальше. Ба, а где же пиджак? В начале февраля, в Милане — и без пиджака? Или он расстегнут и сбился под курткой? Во всяком случае, свитера на нем нет. Пальцы под кожанкой нащупывают ткань рубашки…