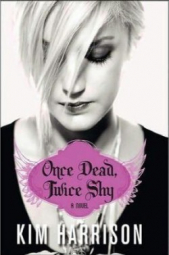Большой треугольник! или За поребриком реальности! Книга первая

Большой треугольник! или За поребриком реальности! Книга первая читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На следующий день от Вовы Бандита пришла записка, адресованная Дедковскому, что он не может сам решить вопрос о заезде в камеру. И на следующее утро в шесть часов утра с заспанными глазами, но улыбающимся, со своей скаткой, которую следом нёс шнырь, Вова приехал к нам в камеру.
Володе было около тридцати пяти лет. Он был невысокого роста, худосочного, но мускулистого телосложения. Лицо его было худое, впалое на щеках. А плотная щетина и борода чёрного, как и волосы, цвета придавали его лицу треугольную форму, на котором слегка раскосые и вечно смеющиеся глаза смотрели из-под тёмных бровей если не волчьим, то взглядом матёрого и опытного лиса.
Володя сказал, что он приехал только на несколько дней, что у него в камере дела. Он сидел в большой камере — на сорок человек. Про Сергея Футболиста он рассказал, что тот заехал в соседнюю большую камеру, к нему там отнеслись хорошо и дали нижнюю нару. А потом, когда в камеру на недельку из тройника купили «Лизу» (по его согласию) и полкамеры «её» (его) тягало, Серёжа отказался на основании того, что те, кто даёт в рот мужчинам или ебёт их в задницу, — те же петухи, или пидарасы, только активные.
— Ну, сказал бы, что не хочет, и не озвучивал бы своего мнения, так он его стал доказывать, и получилось, — улыбнулся Вова, — что вся камера — пидарасы.
И он съехал на Шагина. А его — Вову — смотрящий соседней камеры, неплохой парень, попросил по этому поводу поучаствовать в сходняке.
— А чего участвовать? — улыбнулся Вова. — Тогда-то все промолчали.
Володя оказался вполне приличным и адекватным человеком, а на мою позицию в отношении петухов, что для меня бандиты (как представители преступного мира со своими понятиями) и пидарасы — одно и то же и будут оставаться такими до тех пор, пока не спросят со своих братков, которым я исправно платил дань, а они в протоколе в РОВД в том числе писали, что меня боялись, отреагировал очень сдержанно. Он сказал, что сам их не любит и никогда от бизнесменов не получал, а выколачивал всё из бандитов, точнее — из тех, кто таковыми себя называл. Через несколько дней Володя вернулся в свою большую камеру.
В нашей камере всё так же оставалось три человека, а потом подселили четвёртого — невысокого роста парня лет девятнадцати-двадцати, который сразу же разместился на верхней наре и чувствовал себя как дома, пользуясь всеми бытовыми привилегиями тюремной жизни. В камере я и Дедковский старались относиться ко всем поровну и в остальном такое же отношение получали от сокамерников, каждый из которых мог свободно пользоваться продуктами, сигаретами и телефоном, а в ответ вкладывал в бытовую жизнь камеры свой труд. Однако вновь прибывший молодой человек практически ничего не делал. Когда нужно было перемотать кипятильник, он не умел, а когда нужно было разбудить Дедковского в четыре часа дня, то он сам спал. Как-то раз Дедковский, придя со следственки, сразу же направился к наре молодого человека и, стянув его на пол, толкнул к двери.
— Слышь, иди явки пиши! Ты что обещал оперáм?!
Я первый раз столкнулся с такими делами в камере и с такими действиями Дедковского. И тут же встал на защиту молодого человека. На что Дедковский твёрдо, ладонью руки усадил меня на нару:
— Сядь! Я сам во всём разберусь!
На что молодой человек стал дерзко отвечать, что «мýсора наебать — это святое дело, а наша камера, в которую он заехал, оказалась мусорскóй». На что тут же получил от Дедковского кулаком по голове, а потом ногой пинком в зад — собирать свои вещи.
— Ты иди наёбывай там кого хочешь, только не за наш счёт!
Когда молодого человека с вещами увели из камеры, Дедковский рассказал, что этот парень написал явку на несколько угонов и квартирных краж и обещал следователю написать ещё, если тот договорится с местными оперáми и те разместят его в хорошую камеру, где есть телефон, покурить и поесть. Однако следователя он обманул. Я был совершенно согласен с Дедковским и не собирался ещё им и за раскрываемость платить «слезами своей мамы».
За окном зазвенела капель — наступила весна. Первая моя весна в тюрьме. Весна в заключении — особенно трудное время года. Когда лучи солнца становятся тёплыми, повсюду щебечут и поют птицы, и сердце, кажется, рвётся из груди, а душа — из клетки.
Весной вся тюрьма оживляется и начинает попахивать краской, лица окружающих становятся более доброжелательными и приветливыми, и нередко с искренними улыбками на губах. Как будто неизбежное пробуждение и воскрешение природы принесёт глобальные изменения и в их жизнь.
Однако глобальные изменения (по крайней мере для жильцов нашей камеры) не предвиделись. Каждый либо знал свою судьбу на ближайшие пять, десять, пятнадцать лет, либо неотворотно работал неписаный закон «чем дольше сидишь, тем дольше сидеть будешь».
Дедковский вечером поговорил с дежурным и сказал, что по соседству, через пять-шесть камер, в «Брежневку» в тройник заехал «вор в законе» Спартак. Точнее, как сказал Дедковский, молодой парень, грузин, представляется именем Спартак и называет себя вором в законе. Однако Дедковский очень скептически относился к грузинским ворам — говорил, что эти звания в Грузии продаются и покупаются за ящик апельсинов. Я же о ворах (в законе) вообще не имел никакого представления, поэтому, когда Дедковский через пару дней сказал, что Спартака переведут в нашу камеру, и спросил, не возражаю ли я, то я не возражал. А наоборот, попросил Олю передать бутылку хорошего грузинского коньяка.
Но в назначенный день Спартак в нашей камере не появился. Дедковский сказал, что в шесть часов утра слушал у двери и слышал, как того заказали с вещами. Но Спартак из камеры не вышел и, как сказал Дедковский, начал вызывать óпера.
— Наверное, потому, что не знал, куда его посадят, и, может быть, тебе его нужно было пригласить или хотя бы предупредить, — сказал я.
— Не нужно, — сказал Дедковский, — так как если он вор, то тюрьма — его дом, и он не должен бояться, а должен зайти в любую камеру. А мусорá никогда не будут делать такую провокацию — садить человека намеренно в оби́женку или в петушатню. Особенно если они знают, что он вор. А то, что он не вышел, — это в первую очередь к нашей камере неуважение или боязнь. Потому что корпусной не мог ему не сказать, куда он едет.
— И воры по тройникам не сидят, — добавил Дедковский.
И мы вечером распили бутылку «Киндзмараули», бутылку «Хванчкары» и бутылку хорошего грузинского коньяка.
Нельзя было сказать, что Дедковский душой принадлежал к преступному миру. Скорее, наоборот. Однако он с вдохновением рассказывал, как отсюда двадцать пять лет назад сбежал известный тогда бандит Пуля. А его кумирами были Сонька Золотая Ручка и вор Бриллиант. И каждый имел право восхищаться кем хотел, поклоняться кому хотел, верить во что хотел, думать что хотел, делать что хотел и жить как хотел. Только никому не мешать и не приносить вреда. И, как говорилось, в тюрьме было место для всех мастей и погон.
В тот день, когда Дедковский приехал из РОВД и привёз (точнее — притащил с собой в сумках) ящик сигарет и ящик растворимого кофе, он сказал, что к нему обратились его старые знакомые, когда узнали, что он сидит со мной, с просьбой им помочь. А именно — помочь купить на их отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков микроавтобус (не новый, б/у). И я эту просьбу переадресовал Оле. Покупка (точнее, помощь) состоялась — и теперь его старые знакомые раз в неделю начали Славика посещать в тюрьме. У Славика начал водиться «ганджубáс»(трава). А иногда кое-что и покрепче.
Вечером в камеру открылась дверь, и на пороге со скаткой в руках стоял невысокого роста темноволосый кудрявый загорелый человек сорока пяти-пятидесяти лет, в спортивном костюме, кроссовках и кожаной куртке. Он представился Валентином и сказал, что он депутат Керченского облсовета и что здесь проездом. Валентин был очень культурным и доброжелательным человеком с приятной улыбкой и располагающими к себе манерами поведения. Славик ему сразу уступил свою нижнюю нару. Валентин повторил, что он здесь ненадолго — проездом. Что он был объявлен в розыск и его приняли в аэропорту. Приняли, поскольку ещё не поступили бумаги, что дело уже закрыто. И он не мог спорить и выдавать, что знает это. Но как только его этапируют в Керчь, его там сразу выпустят. В этом разговоре он сразу обратился к присутствующим: не может ли кто помочь ему организовать спецконвой? Видимо, у Валентина уже был опыт нахождения в тюрьме. И он сказал, что может за это заплатить 500 долларов, которые передадут любому человеку в Киеве. Валентин переговорил по телефону со своими родными и был очень благодарен. А Славик сказал, что постарается ему помочь в его вопросе. Валентин был с дороги и, конечно, был голоден — мы ему сразу предложили поесть. Оля как раз в этот день принесла мне передачу, в которой были огромные королевские скумбрии горячего копчения, и я сразу предложил Валентину рыбу. Но, как я ни уговаривал его, тот наотрез отказывался есть рыбу — говорил, что он из Керчи и смотреть на рыбу не может. А когда Валентин покушал, Дедковский предложил ему покурить ганджубáса. На что Валентин ответил отказом, ибо он не только траву — вообще ничего не курил. Дедковский раскурил сигарету с Тарасом-качкóм, которую Славик забивал всегда чистоганом, без примеси табака. А потом Валентин неожиданно сам попросил попробовать рыбки. И съел одну огромную рыбину с мягким, чёрным хлебом. А потом попросил вторую. А когда я предложил третью, он сказал: