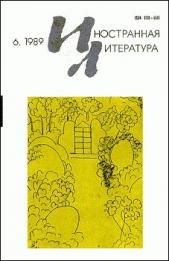Живой пример

Живой пример читать книгу онлайн
Роман посвящен проблемам современной западногерманской молодежи, которая задумывается о нравственном, духовном содержании бытия, ищет в жизни достойных человека нравственных примеров. Основная мысль автора — не допустить, чтобы людьми овладело равнодушие, ибо каждый человек должен чувствовать себя ответственным за то, что происходит в мире.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подтягивая носки, стряхивая пыль с брюк, приводя в порядок узел галстука, он повторяет свои обещания; но обе женщины наперед все знают, они больше не хотят их слышать и уже начали, по безмолвной договоренности, убирать комнату, наводить порядок, который позволит им все скорее забыть. Рита, успокаивая брата, кивает ему, рассеянно, правда, и скуповато, что выдает ее спешку.
— А который, собственно говоря, час?
Ей надо уже бежать. Рите Зюссфельд нужно в отель — пансион Клевер на совещание, они сегодня будут обсуждать предложение Пундта.
— Извини, Марет, но прежде мне необходимо еще раз прочесть эту штуку, если, конечно, я разыщу рукопись.
— А что собой представляет Пундт? — спрашивает Марет, покусывая кончик носового платка.
Сестра, застигнутая врасплох, вспоминает Валентина Пундта и признает, что без труда в состоянии припомнить две, а то и три его особенности.
— Пундт? Кто такой Пундт? Прежде всего он седовласый и приехал из Люнебурга. Порой он кажется мне этакой наблюдательной вышкой, торчащей среди Люнебургской пустоши, вышка эта над всеми высится и все видит, но другим затрудняет проверку того, что сама видит. Почему? Да потому, что нет у нее ни парапета, ни лестницы, ни удобного подъема. Школьный директор, пенсионер, помешанный на сушеных фруктах, понимаешь, он считает их успокаивающим средством на все случаи жизни. Когда-то, когда он был еще совсем молодым, Бекман написал его портрет. Пожалуй, вот тебе пример: спроси у Пундта, который час, он взглянет сперва на свои карманные часы, затем, будто само собой разумеется, на ручные, высчитает в уме среднюю величину поправки и скажет тебе, но с оговоркой — который час. Сын его… да, сын его как будто покончил с собой. Но мне надо найти рукопись Пундта, ту, что он предложил. Мы сейчас работаем над разделом «Примеры из жизни», а точнее говоря: «Примеры из жизни — жизнь как пример».
— Так прочти нам, — предлагает Марет.
— Всю рукопись?
— Прочти, пожалуйста, Хайно тоже послушает, это поможет ему прийти в себя, не правда ли, Хайно?
— Да, Марет, я люблю слушать, когда Рита читает, а рукопись… не в коричневом ли она конверте, он был у Риты в руках, а теперь лежит на моем письменном столе. Посмотри-ка там… Вот видишь!
Итак, Рита будет читать; все рассаживаются поудобней, являя полное внимание: тела, как и быть должно, цепенеют, выражают готовность слушать, руки, спокойно лежащие на коленях, подтверждают, что все ждут и что все сосредоточились.
— Я уже сказала, это предложение Пундта, текст, который он выбрал для нашей хрестоматии, — говорит Рита Зюссфельд.
Смочив слюной палец, она подсчитывает страницы и, считая, высказывает свои соображения.
— Пожалуй, будет даже полезно, если именно вы прослушаете эту новеллу, для меня очень важна непосредственность вашего восприятия. Нам ведь нужно согласиться на одном примере. Вот слушайте! Имя автора Кай Кестер — по всей вероятности, это псевдоним, — а новелла называется «Ловушка». Вы готовы? Итак:
Да, мне бы надо приказать, чтобы он шел впереди меня, хоть я и рисковал, но он должен был идти впереди меня по нескончаемым, укатанным коридорам старых казематов, между рельсов, на которых не стояли больше тележки с боеприпасами, тогда бы я не потерял его из виду, четко различал бы в дугообразном проеме выхода, на фоне сверкающего снега. Все равно, что бы потом с ним ни случилось на заснеженном дворе, на замерзшем пляже, я был бы спокоен, сделал бы свое дело, если бы он шел впереди меня, этакая горстка праха, человек в весе мухи, вечно всем недовольный, с дребезжащим голосом. А может, мне нужно было отослать его назад еще в первую ночь, еще там, в дюнах, неподалеку от казематов, может, он отделался бы наказанием, если бы сам явился с повинной к лагерному начальству, не знаю и никогда не решу этого, прежде всего потому, что лагерь вскоре после нашего отступления был эвакуирован, а тихоходное судно, на котором вывозили заключенных на запад, потопили. Не знаю я, как поступил бы, будучи на дежурстве и к тому не подготовленным, случись все еще раз в подобную же ночь, при резком восточном ветре с моря, произойди отце раз такая встреча, да, я бы сказал, такая роковая встреча. Если бы меня опять откуда-то из снежной впадины окликнул человек, скрюченный, замерзший, в тонкой полосатой концлагерной куртке, если бы опять ко мне из темноты без всяких сомнений, с естественным доверием и надеждой, что я окажу ему помощь, обратился человек: «Эй, дружище!.. Ты меня слышишь, дружище?.. Помоги мне, дружище!» Разве не вытащил бы я его, следуя исконному человеческому побуждению, и не увел для начала в тепло, в безопасное место, в полную безопасность?
До чего же глубоко вкоренилась в нас эта дурацкая потребность в принципах, которые нас замораживают и все упрощают: вот — добро, а вот — зло; они создают защитный слой, эти принципы; тебя напичкивают ими, и ты становишься непробиваемым, готовым отвергнуть любую мольбу, именно в такую ночь, когда выходишь на дежурство, в дюны, когда восточный ветер гонит поземку, а тут вдруг тебя кто-то окликает, кто должен бы тебя страшиться и потому помалкивать. Откуда набрался он мужества назвать меня «дружище», он, с которым нас все, решительно все разъединяло, который был у меня в руках с первого же мгновения, что почувствовал он во мне такого, что побудило его обратиться ко мне с этим словом, когда я вышел из казематов, поднялся в дюны и проходил мимо, не подозревая, что он лежит в снежной впадине, куда, видимо, поскользнувшись на обледенелом песке, упал, но откуда выбраться ему не хватало сил. Он знал, конечно же, что я принадлежу к охране, и все-таки обратился ко мне, он же видел, как я поднимался от казематов, служивших в ту пору складом боеприпасов, старинных, уткнувшихся в землю укреплений, внутри которых тянулись бесконечные стеллажи с морскими минами и торпедами; торпеды, правда, все устаревших типов, да и мины допотопные, видимо, их не считали на что-нибудь годными, но уничтожить тоже не решались, вот и хранили, а мы уже вторую зиму несли здесь караульную службу. К тому же он видел, что я вооружен, а кто при оружии, тот наверняка его заклятый враг, но он не затаился, не дал мне пройти мимо — а я бы прошел, не заметив его, — он окликнул меня, протянул ко мне руки, костлявые, отощавшие, мне их одной пятерней сгрести ничего не стоило:
— Эй, дружище? Помоги мне, дружище!
Он лежал на снегу в тонкой полосатой концлагерной куртке, без шапки, коротко стриженный, но темнота ночи мерцала бликами, благодаря чему я разглядел его лицо: с резкими чертами, своенравное и даже самодовольное. Нет, все это я разглядел не сразу, это я позже пристальнее всмотрелся в него, намаявшись с ним, но одно я все-таки разглядел: страха этот человек не испытывал. Он, которому удалось сбежать из охраняемого лагеря, которого они разыскивали с собаками — а тем стоило только взять его след на снегу, — страха он не испытывал и даже, казалось, не очень тревожился, прислушиваясь к звукам в той стороне, где далеко за дюнами, далеко за густым сосновым бором был расположен лагерь.
— Уведи меня отсюда, дружище, — сказал он, с трудом поднявшись, и нетерпеливым жестом показал вниз, на темнеющий каземат, словно знал, что там он будет в безопасности. — Ну же, пошли, идем.
Но я медлил, снял с плеча карабин, трофейный карабин старого образца, и стоял, и глядел на него, а далеко в ночи, за его спиной над горизонтом взвивались вверх яркие вспышки, оттуда к нам приближался фронт.
Мы стояли друг против друга — я во всеоружии своих преимуществ, и он, странноватый человек, ничуть не обескураженный или отчаявшийся, как если бы все для него было кончено; нет, он, казалось, скорее исполнен был непреложной уверенности, что я, кого он назвал «дружище», не выдам его; и эта уверенность поражала меня, приводила в замешательство, и, быть может, именно тогда я впервые почувствовал, что такой противник мне не по плечу.
Имени своего он не назвал, я и сегодня не знаю его имени; его судьба и его бегство служили ему пропуском, чистосердечным признанием; его одежда яснее ясного говорила, откуда он, по меньшей мере указывала на последнее место его пребывания, поэтому он, видимо, считал, что добавлять больше нечего. Он шагнул мимо меня, не обратив внимания на предупреждение, которое я молча сделал ему; он осторожно отодвинул в сторону ствол моего карабина и отыскал мои следы на снегу, они облегчили бы ему спуск с дюны, но мой шаг был слишком широк для него, для его слабых сил, и я против воли поддерживал и оберегал его, чтобы он не упал, не увяз в глубоком сугробе, а карабин мой уже опять висел на плече. Я следовал за ним вниз, к казематам, предостерегал от заснеженных траншей, заставлял пригибаться, укрывая в тени насыпи, а возле одной из вентиляционных труб, которая в шапке снега торчала из земли, опустившись рядом с ним на колени, попытался объяснить, что здесь ему нельзя оставаться, что склад охраняется, подземелье непрестанно осматривают, каземат станет для него ловушкой, пусть лучше идет по берегу на восток, до небольшого порта, битком набитого отслужившими срок судами, там он скорее найдет убежище, переждет, пока тревога уляжется.