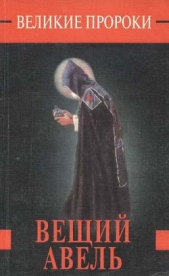Эфиоп, или Последний из КГБ. Книга II

Эфиоп, или Последний из КГБ. Книга II читать книгу онлайн
Знаменитый киевский писатель Борис Штерн впервые за всю свою тридцатилетнюю литературную карьеру написал роман. Уже одно это должно привлечь к «Эфиопу» внимание публики. А внимание это, единожды привлеченное, роман более не отпустит. «Эфиоп» — это яркий, сочный, раскованный гротеск. Этот роман безудержно весел. Этот роман едок и саркастичен. Этот роман… В общем, это Борис Штерн, открывший новую — эпическую — грань своего литературного таланта.
Короче. Во время спешного отъезда остатков армии Врангеля из Крыма шкипер-эфиоп вывозит в страну Офир украинского хлопчика Сашко, планируя повторить успешный опыт царя Петра по смешению эфиопской и славянской крови. Усилия Петра, как известно, увенчались рождением Александра Сергеевича Пушкина. Результаты же повторного эксперимента превзошли все ожидания…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Гайдамака вздрогнул.
Он вспомнил Люську. «Траханьки», — говаривал Гайдамака в реальности (ОСЕФ) А. В той реальности он любил это дело, но велосипед — как конь, как женщина, как водка, как всякое серьезное дело — требовал полной отдачи, надо было выбирать: траханьки, водку или велосипед, а Гайдамака уже не тянул сразу па столько фронтов, завалы лбом об асфальт давали о себе знать. Он вспомнил, как Люська его спасла. Однажды ночью остановилось сердце. Он уже лежал бездыханный. Люська выбежала на балкон и вызвала без телефона «скорую помощь» — кричала на весь Гуляй-град: «Горим! Пожар!» Пожарники приехали минут через пять, на удивление трезвые, узнали Гайдамаку и спасли — сделали искусственное дыхание и (главное) налили сто пятьдесят.
— Помню. Вспоминаю… — сказал Гайдамака, напрягаясь всеми фибрами, чтобы помочь Люське.
— Не напрягайся, лежи спокойно. Все у тебя получится, уже получается. Смотри, какой красавец! А себя ты помнишь, Командир?
— Плохо помню, — пробормотал он.
— Провалы в памяти? Черные дыры?
— Да. Пил по-черному.
— Не вспоминай, лежи спокойно. Сейчас он за тебя все вспомнит, у него своя голова есть.
Люська гуляла коготками снизу-доверху, сверху-донизу но гайдамакиному громоотводу, заряжая его энергией {автор напоминает, что намерен оставаться в рамках приличия даже в самых пикантных ситуациях}, и он уже поднимался — поднимался слабо, мучительно, как утром в понедельник поднимается перепивший в праздники уважающий себя работник, которому пора на работу, которому сегодня обязательно надо быть на работе. Главное — не валяться, не разлагаться, а встать! И работать! Вставай, поднимайся, рабочий народ! Подъем! Мотор… Мотор работает. Тяга нормальная. Вставай!.. Встает!
Пошел, пошел…
Как вдруг по селектору раздался голос Акимушкина:
«Ну зачем вы такие методы применяете?»
Голос Нуразбекова ответил:
«Это кто меня спрашивает?! Это вы меня спрашиваете?! Вы же сами говорили, что этого африканского слона завалить надо! Доктор приписал, Владимир Апполинариевич: острые ощущения!»
«Да, я несу ответственность. Но зачем же его так спаивать?» «Да мало влили еще! Мало! Я же вам заказал молдавский коньяк! А вы — благородные напитки! У меня язык опух, я весь день — ля-ля и анекдоты рассказываю! У меня руки чесались дать ему в морду! Или член в дверях прищемить. Сразу бы вспомнил, в какой реальности находится!» «Экий вы садист…»
— Вот, сволочи, убить вас веником, не дают спокойно работать, — сказала возбужденная Люська, отрываясь от дела. — Эй там, заткнитесь! Отключите селектор. У него опять все опустилось. И телекамеры выключите, что за охота сексуальные сцены подсматривать? Что, слюни текут? Козлы! Я так не могу работать!
— Извините, Люсьена Михайловна. Работайте спокойно, — последовал ответ, и все отключились.
У Гайдамаки же опять все опустилось.
ГЛАВА 10. Эпилог
Иванов у Чехова застрелился, потому что пьесу нужно было как-то кончать, того требует современная эстетика, Еще немного — и драматурги избавятся от этого стеснения: им разрешат открыто признаться, что они не знают, как и чем кончать.
Сейчас еду в «Русскую мысль» просить 500 рублей.
Эта биография Чехова, написанная С. Моэмом, является хроникой блистательных чеховских побед — вопреки бедности, обременительным обязанностям, мрачной среде и слабому здоровью. Антон был третьим сыном в семье. Его отец, Павел Егорович, человек необразованный и глупый, был жесток и глубоко религиозен. {Необъективная оценка Моэма, другие биографы не столь категоричны.} Чехов вспоминал, что в пятилетнем возрасте отец приступил к его обучению — сек, бил, драл за уши. Ребенок просыпался с мыслью: будут ли его и сегодня бить? Игры и забавы запрещались. Полагалось ходить в церковь два раза в день, дома читать псалмы. С восьми лет Антон служил в отцовской лавке с вывеской: «ЧАЙ, САХАРЪ, КОФЕ, МЫЛО, КОЛБАСА И ДРУГИЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ». Под этим названием лавка и вошла в русскую литературу в одном из его рассказов. Она открывалась в пять утра, даже зимой. Антон работал мальчиком па побегушках в холодной лавке, здоровье его страдало. Когда он поступил в гимназию, заниматься приходилось только до обеда, а потом до позднего вечера он опять сидел в лавке. Неудивительно, что в младших классах Антон дважды оставался па второй год. Одноклассникам он не очень запомнился. Так о нем и писали: никакими особенными способностями не отличался. По-русски это называется «ни то, ни се».
Когда Антону исполнилось шестнадцать лет, его отец обанкротился и, опасаясь долговой тюрьмы, бежал в Москву, где два старших сына, Александр и Николай, уже учились в университете. Антона оставили одного в Таганроге — кончать гимназию. Он вздохнул свободно и «вдруг» обнаружил такое прилежание по всем предметам, что стал получать пятерки по ненавистному ему греческому языку и даже давать уроки отстающим ученикам, чтобы содержать себя. «Разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная».
Через три года, получив аттестат зрелости и ежемесячную стипендию в 25 рублей, Антон перебирается к родителям в Москву и поступает на медицинский факультет. В то время Чехов — долговязый юноша чуть ли не двух метров ростом, у него круглое лицо, светло-каштановые волосы, карие глаза и твердо очерченные губы. Неприятным сюрпризом для Антона явилось то, что он, оказывается, говорил на «суржике» {южнорусский диалект с сильным влиянием мягкого украинского языка, — Разъяснения Моэма для английского читателя}: «стуло», «дожить», «пхнуть», «Таханрох»; а в прошении о зачислении в университет слово «медицинский» написал через «ы» — «медицЫнский». {Англичанам сразу следует запомнить, что слова «ложить» в русском языке не существует. Только «класть».}
Семья Чеховых жила в трущобном квартале, где располагались публичные дома (что-то вроде нашего лондонского Ист-Энда). Отец нигде не работал — не мог устроиться, старшие братья учились, перебивались случайными заработками и любили покутить в дешевых кабаках. Антону пришлось взвалить на себя обязанности главы семьи. Он привел двух знакомых студентов — они стали жить и кормиться у его родителей. Вскоре переехали на другую квартиру, попросторней, но на той же грязной улице. Отец наконец-то устроился приказчиком на складе, обязан был там ночевать и приходил домой только по воскресеньям, так что на какое-то время семья избавилась от этого деспотичного человека, с которым так трудно было жить.
Антон любил рассказывать смешные истории, слушатели покатывались со смеху. Он слышал, что журналы неплохо платят, написал рассказ «Письмо к ученому соседу» и отослал в журнал «Стрекоза». Однажды купил очередной номер и увидел рассказ напечатанным. Гонорар составил 7 рублей 45 копеек. Неплохо. Чехов стал слать в «Стрекозу» по рассказу в неделю, некоторые принимались, но другие возвращались с комментариями, вроде: «Не начав писать, уже исписались». Литературные нравы в те времена были не лучше современных. Чехов не очень-то обижался, а отвергнутые рассказы пристраивал в московские газеты, хотя там платили еще меньше — авторы должны были дожидаться, пока мальчишки-газетчики принесут с улицы копеечную выручку.
Первым, кто хоть как-то помог Чехову войти в литературу, был издатель с легкомысленной фамилией Лейкин. Он и сам писал юморески, написал их тысячи, ни одна не осталась в литературе. Через много лет Лейкин, накачиваясь водкой в литературных салонах, бил себя в грудь и гордо кричал: «Это Я сделал Чехова!» Над ним посмеивались, но понимали, что в чем-то старик прав. В ранних рассказах Чехова чувствовался «свежак», как говорил Лейкин. Он подрядил Чехова поставлять в свой журнал «Осколки» еженедельно по рассказу в сто строк и строго следил, чтобы не было ни одной лишней строки. Получилась полезная школа для молодого писателя, потому что волей-неволей приходилось вкладывать необходимое содержание в небольшой объем. «Краткость — сестра таланта», — говорил Лейкин, хотя эта фраза по традиции приписывается Чехову.