Восемь глав безумия. Проза. Дневники
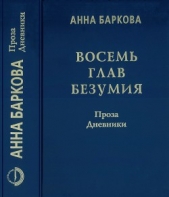
Восемь глав безумия. Проза. Дневники читать книгу онлайн
А. А. Баркова (1901–1976), более известная как поэтесса и легендарный политзек (три срока в лагерях… «за мысли»), свыше полувека назад в своей оригинальной талантливой прозе пророчески «нарисовала» многое из того, что с нами случилось в последние десятилетия.
Наряду с уже увидевшими свет повестями, рассказами, эссе, в книгу включены два никогда не публиковавшихся произведения — антиутопия «Освобождение Гынгуании» (1957 г.) и сатирический рассказ «Стюдень» (1963).
Книга содержит вступительную статью, комментарии и примечания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
10/11. «Симона» Фейхтвангера [120] — роман об оккупации Франции, о чувствах и действиях юных французов в период этой самой оккупации. Лучше многих наших военных произведений (искреннее, правдивее, естественнее), и все же — стара стала, слаба стала. Романы об Иосифе Флавии, даже «Лже-Нерон», даже «Семья Оппенгейм» куда сильнее. «Лже-Нерон» — очень злой и очень умный памфлет, с большим вкусом и остротой, осовремененная древность. А «Симона» и несколько сентиментальна, и скучновата. Сны о Жанне д’Арк чересчур сложны, и им не веришь.
Вообще пересказ истории Жанны д’Арк занимает половину книги. Вот еще одна из самых непостоянных репутаций. Бедная Жанна! И при жизни, и после смерти ее возносили и низвергали, канонизировали и сжигали на костре, согласно капризам исторической ситуации. Шиллер, Вольтер, Франс…
«Самые любимые имена французов — Наполеон Бонапарт и Жанна д’Арк» («Симона» Ф<ейхтвангера>).
Почему Наполеон Бонапарт? Роковой для Франции и французской свободы человек, по справедливому замечанию Герцена, сумевший повернуть вспять колесо истории и развратить целое поколение [121].
И такая сомнительная репутация. Бальзак, Пушкин. Лермонтов, Достоевский, Байрон, Гейне, Герцен и, наконец, Толстой, и — забыла — Франс!
«Социальное творчество» очень сильно поработало над этой фигурой, и честь и слава Толстому и Франсу, сумевшим «разоблачить метод» (пользуюсь выражением формалистов).
Наполеон любил позу, пышнословие и пустословие. Пусть это странность, но мне более по душе великий и загадочный кровопроливец Тиберий, насмешливо отказавшийся от титула отца отечества и перебивший всех своих родственников.
М<ожет> б<ыть>, так и должен поступать мудрый император.
Родственники Наполеона слишком дорого обошлись Европе [122].
Вообще эта возня с многочисленной семейкой, устройство братьев и зятьев на вакантные европейские престолы придает смешной и мещанский отпечаток облику последнего Цезаря.
И это ужасающее стремление к популярности, эта планомерная организация народной и солдатской любви… В конце концов эти вещи любого вождя ставят в безвыходно смешное положение. Фимиамы и восторги для каждого более или менее чувствительного носа пахнут своей противоположностью — чертовской иронией, тем более сильной, что эта ирония сама себя не сознает. Она преисполнена божественного простодушия, как сказал бы Франс.
Мысль — неисчерпаемая сокровищница наслаждений (бессмертные прописи), но очень часто — особенно вечером — хочется сочетать тонкую хорошую мысль с тонким хорошим ужином. И увы! — даже убогого ужина не получаешь от скупого неба. В тягучей книге Мерсье [123] «Картины Парижа» мне понравилось трогательное место, где он описывает обеды у богатых и досужих людей (меценатов), приглашающих к себе богему искусства и ума. Мерсье возмущается древним прозвищем «паразит», коим награждают нищих любителей чужих обедов и ужинов. «Разве съест богач все запасы своей пищи и разве не приятно ему угостить бедняка, к<отор>ый обрадует (и, по-видимому, вдохновит на съестные подвиги разочарованного в яствах мецената) хозяина своим аппетитом», — восклицает Мерсье с горьким пафосом. Боль и скорбь души слышится в патетическом вопле Мерсье. Я от всего сердца разделяю скорбь очеркиста-философа XVIII века. В самом деле, почему никакой прохвост любого пола не угостит меня хорошим обедом или ужином, не порадуется моему аппетиту и остроумию и не отвалит хотя бы тысчонки три на временное удовлетворение первого и на поддержку последнего. Как сэр Эгьючик Андрей в шекспировской «Двенадцатой ночи», я теряю остроумие, потому что ем слишком мало говядины [124]. (А я ее почти вовсе не ем. И не склероз тому причиной.)
Из Москвы — ничего. Неужели что-то стряслось с единственным человеком, к<отор>ый откликнулся мне?
Придется ложиться спать, ибо есть хочется все сильнее, а ресурсов ни малейших нет. Но сначала в тысячный раз подсчитаю, на что бы я израсходовала 3 тысячи, полученные от мецената (см. кабинетные занятия Иудушки Головлева [125]. В конце моих расчетов почему-то обнаруживается, что трех тысяч на мои нужды маловато. Постепенно щедрость мецената возрастает до пяти, до десяти и, наконец, доходит до 20 тысяч. Здесь моя фантазия <…>.
Дневники велись в Калуге. Записи чернилами на разрозненных листах. <…> На первой странице дневника 1946 г. есть расписка: «Собственноручные записи. Изъято у меня 25.VI.[1947] при обыске. 63 листа. Баркова.»
Из записных книжек 1956–1957 годов
23/XI-56 г. Читаю Розанова [126].
«Рене Декарт или юный преступник, к<отор>ый сожжет свой дом… Богу все нужно. У бога нет лишнего»… (о рождении детей). А если идиот, пускающий слюни (как фактически из «мистического духовного семени» и получилось у Р<озано>ва: одна дочь — почти слабоумная [127]<…>).
Р<озано>в не любил смеха, а жизнь, хоть и после его смерти, демонически беспощадно осмеяла его святыни и половые прозрения…
В отношении к сексу и браку он (Р<озано>в) в чем-то, безусловно, прав… Я понимаю это, но правота его меня, человека «лунного света», чертовски раздражает.
Сообщение Р<озано>ва: «Толстой назвал „Женитьбу“ Гоголя — пошлостью» [128]. Ан вот и нет! Не пошлость. Великая философия, конечно, противоположная розановской и толстовской первых десятилетий его творческой жизни. Толстой в последние десятилетия очень хотел «выскочить в окно», да не мог и с сокрушением писал в «дневниках»: «Пойду еть ее».
А Подколесин выскочил «в расцвете сил», так сказать, тоже человек «лунного света» [129]. Толстой подсознательно позавидовал и Гоголю, и Подколесину.
С самого раннего детства в половом чувствовала угрозу и гибель. С восьми лет одна мечта о величии, славе, власти через духовное творчество. Не любила и не люблю детей до сих пор, сейчас мне 55 лет. И когда мне снилось, что я выхожу замуж, во сне меня охватывал непередаваемый ужас, чувство рабства. Просыпалась я с облегчением Подколесина, выскочившего в окно.
…Розанов восклицает вместе с Федором Павл<овичем> Карамазовым:
— Она много возлюбила, и ей простится.
— Но ведь не о такой любви говорил Христос (возмущенная реплика монаха).
— Именно о такой, монахи, именно о такой. Вы тут пескариков кушаете. В день по пескарику, и думаете, что душу спасете!..
Готов Христа обвинить, как Герцена в отсутствии музыкальности [130] (после революции). А почуяв старость, потеряв жену, поплелся в церковь [131]. «Здесь бессмертие души»… В этом-то все и дело. И нечего реветь коровой на Христа. Христу наш мир был не нужен, «беременные брюха» Ветхого Завета не нужны. Христос принес весть о бессмертии, о вечной жизни в ином мире, где святое семя и метафизика половых актов — лишнее, «гармошка для архиерея». Можно в это верить или не верить, но это так. И метать громы и молнии против Христа незачем.
5/XII. День Конституции… Два моих, с позволенья сказать, «дела» разбирают с августа м<еся>ца. А блага конституции я испытываю уже 22 года.
Достигнув истины, мир погибнет (ночная мысль).
…Поэтому ложь — великое жизненное начало?
В. М. [132] Есть люди с великими плюсами еврейства (неугомонная мысль, готовность во имя ее пойти на отвержение и на смерть, доброта и верность друзьям и единомышленникам).
























