Восемь глав безумия. Проза. Дневники
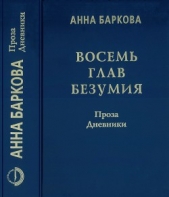
Восемь глав безумия. Проза. Дневники читать книгу онлайн
А. А. Баркова (1901–1976), более известная как поэтесса и легендарный политзек (три срока в лагерях… «за мысли»), свыше полувека назад в своей оригинальной талантливой прозе пророчески «нарисовала» многое из того, что с нами случилось в последние десятилетия.
Наряду с уже увидевшими свет повестями, рассказами, эссе, в книгу включены два никогда не публиковавшихся произведения — антиутопия «Освобождение Гынгуании» (1957 г.) и сатирический рассказ «Стюдень» (1963).
Книга содержит вступительную статью, комментарии и примечания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Против обыкновения Жан Донне вдруг рассмеялся коротким и жестоким смехом.
— К счастью, чума, холера и прочая прелесть нападает на чистых и нечистых, она не разбирает, кто господин, кто раб, она не считается с кастами… Представляю себе, что происходило во тьме времен с этой злосчастной Индией… Не без причины же этой колоссальной страной владел, кто хотел, вплоть до недавнего времени.
Что такое «неприкасаемые»? Люди самых низших сект, занимающиеся самой грязной работой. Когда-то именно побежденных использовали на такой работе, именно побежденные объявлены были «неприкасаемыми». И здесь-то вот корни индийских сект, а также причины индийского порабощения. И сейчас правоверный брамин способен убить «неприкасаемого», который подойдет к его колодцу. За оскорбление Ганумана [48] и священной коровы и в наше время индусы могут истребить <неразборчиво> Только в прошлом веке колонизаторам-англичанам удалось уничтожить обычай сжигания вдов… Разве это так уж сильно отличается от нашей привычки уничтожать жен, пришедших в негодность? До сих пор в Индии муж может выгнать жену из дома по соображениям кастового и религиозного порядка. А ведь Индия создала возвышеннейшие религиозные системы и утонченнейшую философию. А вы нападаете на крошечную, наивную Гынгуанию.
Премьер залпом выпил сразу несколько бокалов вина. Он был бледен, как может быть бледен черный. Из светло-шоколадного он стал каким-то мучнисто-серым.
Черт возьми! Вы, действительно, гениальны до вредности. Но вредность ваша опасна не только для вас, но и для всего окружающего. Что же предпринять нам? Что делать?
Жан Донне серьезно ответил:
— Быть философом не только по специальности.
— Что я скажу делегациям? Что я им продемонстрирую?
— А ничего, — спокойно возразил Жан Донне. — Вы слишком беспокоитесь об этих делегациях. Пусть наши белые друзья расхлебывают кашу, которую они же сами и заварили. Да ничего особенного не произойдет. Они потолкуют с нами здесь, в этом уютном кабинете, выпьют хорошего вина, пообедают, мельком взглянут на живописные шалаши, украшенные и замаскированные кумачом — тут уж придется раскошелиться, а может быть, наш добрый министр госбезопасности достанет красных тряпок у своих друзей и безвозмездно. Затем делегации мирно уедут, затем в газетах появится восторженное описание райской страны Гынгуании, которая… гм… засучив рукава, строит социализм. Захлебываясь, журналисты будут врать о добродушии, приветливости, кротости и прирожденном свободолюбии гынгуанского народа, о грации и привлекательности гынгуанских женщин. Две трети разглагольствований будут посвящены правительству. Премьер Гынгуании — доктор философии, подумайте! Министр культуры — знаток и ценитель всех искусств, и сам скрипач. Министр госбезопасности прозорлив, мудр и предан делу Маркса-Ленина… Министр иностранных дел — бывший кельнер, то есть пролетарий, знает четыре языка, очень образованный самоучка. Они упомянут даже и нашего милого, славного традиционалиста, ярого сторонника, хранителя и пропагандиста древней гынгуанской культуры и обычаев, нашего свирепого знахаря Рчырчау… Разве вы не знаете, как все это делается, мой дорогой Дон-Кихот?
На лице премьера выразилось сильнейшее отвращение. Он откупорил новую бутылку вина и снова залпом выпил два бокала. Его коллеги молча следили за борьбой каких-то тягостных мыслей на его лице и за каждым его движением.
— Я не могу так! — вскричал он и начал ходить, вернее, — судорожно метаться по комнате. — Я не могу лгать, не умею утверждать, что есть то, чего нет!
— Привыкнете! — успокоительно заметил Жан Донне. — А не привыкнете, — уезжайте в Европу. В сущности, вы почти белый. Будете там читать лекции о Платоне английским юношам и юношам-мулатам в колледже вашего тестя. Вы слишком честны для того, чтобы заниматься политикой, и слишком серьезно настроены для того, чтобы вести Гынгуанию к коммунизму. Такое занятие требует большого юмора, резко выраженной комической жилки в характере.
— А гынгуанцы? — отрывисто спросил Фини-Фет.
— Предоставьте их собственной судьбе и нашему великому жрецу. Право, им будет если не лучше, то и не хуже.
— Бросить семь тысяч человек в жертву Давилии-Душилии, священным черепахам, желтым жукам — и это все? Невозможно!
— А вы намереваетесь приохотить гынгуанцев к Бальзаку и Шекспиру, к белому замороженному вину и к белым брюкам? Может быть, вы, как планирует Драуши, и атомную бомбу изготовите?
— Бомбу? — странно улыбнулся премьер, — бомбу?
Он внезапно остановился посреди комнаты, глядя куда-то через стену остекленевшими глазами. Видно было, что он, если не совсем пьян, то сильно подпал под влияние алкогольного Уурбра.
— Всё-таки вы презираете не превзойденную нигде и никем культуру белых, — упрекнул министр культуры Жана Донне. — Если нам не удастся ассимилироваться, мы должны заимствовать у белых все лучшее.
— Уже! Готово! Позаимствовали. Вы слушали сегодняшние выступления Рчырчау, У-Даря и Драуши?
Мин<ист>р культуры смутился на секунду, потом с досадой воскликнул:
— Зачем вы именно такие примеры берете? Почему вы не укажете на себя, на Фини-Фета, на меня? Мы же все-таки настоящие люди, в полном смысле этого слова, люди интеллигентные, думающие. Неужели среди гынгуанцев только мы одним одарены известными способностями и уменьем мыслить?
Невозмутимость Жана Донне не поколебалась.
— Желая только блага нашим родичам, я надеюсь, что таких, как мы, среди гынгуанцев очень немного, т<о> е<сть> совсем нет. Может быть, найдется десять-двадцать человек, из которых можно выработать нечто, подобное нам. Надеюсь, что эти люди все же избегнут такой участи.
— Да почему? Почему? Что за недоверие к человеческому разуму и к человеческому творчеству! Неужели гынгуанец не сможет мыслить и воспринимать, как белый?
— Что воспринимать и о чем мыслить? Если вы, на самом деле, собираетесь привить гынгуанцам любовь к Толстому, Голсуорси и Анатолю Франсу, то ничего из этого не выйдет. Друг мой, мы не нюхали ни феодализма, ни капитализма, ни XVI, ни XVIII века и сразу вскочили или собираемся вскочить в какой-то социализм на какой-то национальной почве. Гынгуанцы попросту не поймут великих вопросов, мучивших белое человечество. Европейские гении останутся для них глубоко чуждыми.
— А вы-то вот поняли! Я понял! Он понял! — указал министр культуры на Фини-Фета, стоявшего в прежней позе. Он как будто потерял интерес к беседе и прислушивался к некоему внутреннему голосу.
— Мы поняли, да! Значит, мы исключительные люди, т<о> е<сть> выродки, отщепенцы, — сдержанно ответил Жан Донне и рассмеялся своим отрывистым жестоким смехом. — Послушайте, вы, юнец: да и в самой Европе только высшие интеллигентные круги знают и ценят, положим, Франса, Мольера, Лесажа, Шелли и Гейне. Ну, кое-какие трагедии Шекспира в театре посмотрят. Считанные единицы знают Гете и Шиллера… Только дряхлые классики знают Вергилия и Горация. Клянусь вам! Ну, еще современную литературу почитывают. А ведь в Европе сотни миллионов населения. А в Гынгуании около 7000. По-моему, трех интеллигентных выродков, да еще таких, как мы, вполне достаточно.
Мин<истр> культуры крикнул с негодованием:
— Не пойму: шутите вы или говорите серьезно.
— Вполне серьезно. Если во всех странах мира низы, да и средние классы далеки от высокой культуры, зачем она нужна гынгуанцам?
— А грамотность? А житейские культурные навыки? Наконец, искусство? Я уверен, что искусство, музыка, напр<имер>, доступна любой, даже самой примитивной душе.
— У нас есть музыка. Боанг-Уанг, Грым-Рым, Тум-Тат.
— Положительно, вы насмехаетесь. Разве это музыка? А я убежден, что подлинная музыка воспитывает в человеке утонченность чувствований, облагораживает самые низменные инстинкты, прививает высшее, что есть в мире, — любовь к красоте.
— У нас в правительстве, я вижу, одни эстеты, — не без ехидства, будто про себя пробормотал Жан Донне.
























