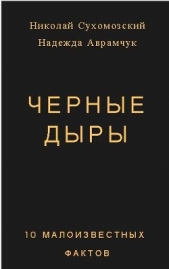Цыганский Конец
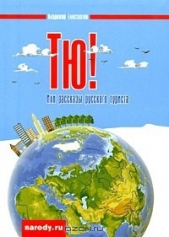
Цыганский Конец читать книгу онлайн
Невероятно смешные! Путевые заметки известного доктора культурологи, профессора и автора множества словарей, в том числе "Толкового словаря русского сленга", Владимира Елистратова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я удивлённо посмотрел на Саню. Как это — «я сама»?
— Александра Ивановна Хорькова, — торжественно протянула мне руку Саня. — Да я, моряк, привыкла. Меня все приезжие за мужика принимают. Обмоем новоселье-то?
Новоселье обмыли. Стекло мне Саня вставила и вообще во многом помогла.
Саня оказалась удивительным существом. Курила она — как паровоз. Пила — как лошадь Мюнхгаузена. И ничего: полная ясность мысли. Тридцать лет она проработала водителем: грузовика, автобуса, газика. В прошлом году вышла на «пензию». Жила и вела хозяйство одна. Двое детей её уехали в город. По деревне Саня ездила на мотоцикле. О трёх своих бывших мужьях говорила так:
— Разве это мужики? Это не мужики, а эти… как их… ампутенты. Курятина сыроштанная. Клюкнул, сука, баночку — и рыдает, как Татьяна Доронина. Жизнь у него, видишь ты, не задалась, у карася копчёного… Да ты, кисель, иди, работай! А то сиропится лежит, как карамель на печке… Тьфу!.. Горох, а не мужики: в п…у засунуть — из ж…ы вынуть.
Чем больше я узнавал концовцев-чернодыринцев, тем больше им поражался. Прежде всего — их речи. Поначалу, слушая их рассказы, я всё время слегка раздражался. Чего-то мне не хватало. А потом дошло. Дело в том, что содержание их речи всегда адекватно форме. «Что» и «как» в их речи — близнецы. Совсем другое дело — туманная каша городских разговоров. «Он как бы ей говорит, да? А она вообще как бы ничего на самом деле не понимает, да?..» Что это? Перевожу: «Он говорит, а она не понимает».
Обитатели Чёрных Дыр ту же самую глубокую мысль выразили бы следующим образом:
— Он-то, жеребец пятиногий, ей всё свой хрен вправляет, а она — ни «тю», ни «зю».
Или:
— Васька-то ей: «гыч-гыч-гыч! пыр-пыр-пыр!», а Людка-то свои пельменя (т.е. глаза) выкатила, что твоя мексиканская блядища (т.е. героиня мексиканского сериала) — и ни тебе «здравствуй», ни тебе «налей стакан».
Или:
— Понималка между ними была аховая: у неё ж, у Ленки-безгондонки (так её прозвали за частые аборты) не мозги, а подмороженное козье серево, она ж боится всего: ёжик пукнет — испугается. А он-то, Володька-то, ей с утра до ночи: пойми, говорит, меня, любимая, пойми! а то, говорит, под трёхколёсный велосипед с горя кинусь… Тьфу! Ни стыда, ни Родины.
Дом я купил у Клавдии Мартышкиной, работавшей на районном хлебозаводе. Клавдию все звали, разумеется, Мартышкой, вернее — Клавкой-Мартышкой. Здесь часто давали такие вот «клички-биномы»: Клавка-Мартышка, Ленка-Безгондонка, Васька-Полухряк.
У Клавки имелся муж, Сергей, бывший уголовник, отсидевший неизвестно за что в общей сложности лет пятнадцать, ослепительно синеглазый, щуплый, беззубый мужик, который не занимался ничем, кроме рыбной ловли. Изъяснялся он так:
— Я-те там за карася-то, да и вот, а чтоб-те там в пруде́ — ни за того так и на́.
— Чего на́-то? (это его переспрашивают)
— Агрессия НАТО! Того и на, что с карасём да и так, а хрен ли, если в пруде́.
— Что в пруде́?
— Бант на елде! Карасём, говорю, так? Ну? А леска-те намоталась, ну и как слониха на пеньке — хыч-хыч, вот те и тушёнка-мошонка.
Сергей всегда говорил очень много и эмоционально, но не понимал его никто. На самые простые вопросы он всегда отвечал пулемётной очередью из, казалось бы, никак не связанных друг с другом слов. Так что все давно махнули на него рукой. Спросишь его:
— Серёга, тебе налить?
Отвечает:
— Стакан-те, у него ноги где? Нету, а с какого ж те, чтоб не наливать, раз такого? Лей — не жалей — ёж не трактор.
— Какой ёж? Какой трактор? Наливать тебе или не надо?
— Россия — не Канада! Нет такого закону, чтоб за водярой в космос летать.
— Да ну тебя!.. Как с тобой Клавка живёт, с трепачом…
— Как Россия с Ильичом. Стакан-те — это какого? То-то и на нём, что плеснуть. По сто пятьдесят — и под кумпол. Крути каучук, Роднина под Зайцевым!
Ему наливали. К водке он был равнодушен.
У Серёги в голове было то же самое, что и на языке, то есть ничего — и всё сразу. Ум Серёги каждое мгновение жизни делал титаническую попытку охватить весь мир в его совокупности, так сказать, синтезировать Бытие. Любой вопрос он принимал за вопрос о смысле жизни. И тут же этот вопрос решал. Каждый раз — по-новому. Например, спросишь его:
— Серёга, картошку когда сажать будешь?
Ответ:
— Жук-те в дерьме, Маркс-те в бороде, а клубника в Израи́ле.
Или:
— Серёга, в колонке вода есть?
— Гагарин-те тоже каждый месяц трусы стирал, а всё равно, бляхин спутник, задвинул чуни.
И при этом Серёга всегда находился в ровном, гармоничном приветливом настроении. Ничто не могло вывести его из этого равновесия. Какой-нибудь Сократ или Чжуан-цзы по сравнению с Серёгой Мартышкиным — просто мальчики, вернее, изъеденные чёрной рефлексией неврастеники.
Клавка-Мартышка была полной противоположностью Серёге. Она была начисто лишена не только абстрактного мышления, но и мышления конкретного. Она не мыслила — она вся тревожилась. За это её, кстати, многие звали Чучундрой.
Крупная, белобрысая, розовая, как свежая лососина, здоровая баба, Клавка всего на свете боялась и не доверяла миру ни в чём. Скажем, покупает Клавка в ларьке хлеб. Ей говорят: «тридцать копеек». Клавка выкатывает глаза (в деревне говорили: «залупила трында бельмы») и плачущим голосом выпевает:
— Ой, и тридцать-то?.. Что ж не двадцать-то?..
Или, схватив щеку рукой, как будто её гложет флюс, скорбно интересуется:
— Ой, да сегодня понедельник ли?
— Понедельник, понедельник…
— Ой, а что ж это не среда-то?
— А зачем тебе среда?
— Да уж и не знаю, спокойнее как-то…
— А чего спокойнее-то? К выходным, что ли, ближе?
— Да на кой прыщ они мне, выходные-то… В выходные-то ещё хуже: будто как понедельник скоро.
— А понедельник-то чем плох?
— Ой, уж не знаю я, щёкоти́т будто чегой-то внутри по-недоброму, прям как этот… ужик за пазухой.
— Да кто тебя щёкоти́т? Тебя пойди защекоти… У тебя пазуха-то… Там не ужам, там слонам в прятки играть.
— Ой, не знаю, не знаю… Всё чегой-то не то, да не туда, да не так… Прям как в этом в лаби…ринте, что ль, как его…
— Ладно, завтра вторник, а там и среда…
— Ой, не дай бог!
— Что не дай бог?
— Ой, не дай бог вторник, хуже вторника-то только пьяный пулемётчик…
— И вторник тебе не нравится…
— Ой, да только бы не вторник, лучше от козла тройню родить, чем вторник-то…
И так до бесконечности.
Торговался я с Клавкой несколько месяцев. Сошлись на сумме, которая была раза в два меньше реальной. Серёга в этом деле не участвовал, только весело повторял: «Банкуй, Мартышка, прикуп наш!» — и шёл ловить карасей, которых потом отдавал коту Шельме, вальяжному альбиносу с наполовину откушенным собаками ухом. Шельма деловито жрал карасей, забирался на плечо к Серёге, и тот носил его по деревне, дремлющего.
Дом, который я купил, находился в состоянии страшном. То есть сруб-то был добротный, но грязь в избе и вокруг неё — ужасающая. Как можно было жить в такой грязи, не постигаю. Мартышкины не знали, что такое мусорное ведро. Всё выкидывали прямо за крыльцо, на землю с Серёгиным философским комментарием: «Хряк — не баба, гниль — не триппер». Пол в избе весь сгнил от сырости, грязными были и обои. Окна сколочены были кое-как, щели затыкались тряпками. Вонь в избе стояла адская.
Месяц я драил избу, перекапывали землю вокруг, доставая то битые бутылки, то какие-то гигантские голубовато-глянцевые кости. У сортира я вырыл солдатскую каску и штук двадцать крупных гильз. Из-за забора в это время за мной наблюдала Могонька, наша соседка (Светка Приходова), прозванная так за то, что, напившись, любила хвалиться: «Я всё могу, я и это могу и то могу, я всё могу».
Каска не произвела на Могоньку никакого впечатления.
— Котелка не выйдет, — сказала она, пощёлкав железо, — ржавлёное всё. Ты вон на задах копни, там пушка зарыта.
— Пушка?
— Пушка, пушка. Сорокопятка.