Группа продленного дня
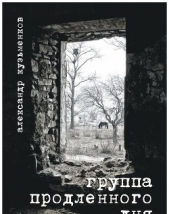
Группа продленного дня читать книгу онлайн
Эпиграф: * "Скажи, Саша, стоят ли все твои муки по жизни такой мучительно блестящей литературы? Не ранят ли тебя самого клинки твоих отточенных фраз?"
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ГЛАВА VI
«Сосватал я себе неволю,
Мой жребий – слезы и тоска!
Но я молчу, – такую долю
Взяла сама моя рука».
Г л и н к а
На заломе улицы подле английского посольства грузно колыхалось слипшееся мясное многолюдство. Над толпою топорщились спесивые хоругви. Опухлый малый в сизой чиновничьей шинели, по-обезьяньи повиснув на фонарном столбе, надсадно лаял нечто в жанре незабвенных ростопчинских афишек: нехристи друг дружку поедом едят, а мы единого креста, единой веры… на вилы подымем, дрекольем погоним… Бонапартий на что бойчее был, и того гнали ажно до Парижа… Над толпою вспорхнул еще один голос: братцы! а ну дегтем их, блядей! На ворота под общий гогот жирно легли бурые пятна. Он махинально отметил про себя: беззазорное на порядок посягновение – статья 213-я Уголовного Уложения. Повытчик на столбе широко размахнул картузом, – из драной подмышки полезли изжелта-серые ваточные клочья, – и сипло завел: да воскреснет Бог… Толпа враздробь отозвалась: да погибнут беси от лица любящих Бо-ога… В небе черными флагами полоскались вороны, сорванные с крыш молодецким разрозненным осьмигласием. Невдалеке бутошник, подпертый оперным бердышом, боролся с зевотою, заряжая в ноздри изрядную понюшку табаку. Посконное кликушество насмерть огадило еще в Москве, и он двинулся прочь, не чувствуя даже обыкновенной насмешливой брезгливости.
Поутру он, не особо разбирая, нанял скверный, в коростах облезлой вохры, нумер, но уснуть толком не вышло: кровать, едва закроешь глаза, принималась качаться и считать ухабы, будто почтовая карета. Остаться в четырех стенах да пялиться на тараканьи посиделки по углам было и вовсе невмоготу, прежде досыта нагляделся, – и он сошел со двора и бездумно вверился кучной суете столицы. Владимир не сделал на него впечатления; права матушка Екатерина: строением мерзок, все на боку. Иного, впрочем, и не ждал: в последние две недели жизнь отложилась от него и обреталась где-то поодаль; ощутительна стала лишь склизкая, сосущая тягота, – она до нитки обобрала мысли, запретив все, кроме собственного гнета. Назойливая внутренная тягость происходила от тягла, от долга, избыть который можно лишь вместе с самим собою, – но только тот и долг, что принят доброй волею…
Улица вывела его к Волге. Река, серая и бугристая, замертво лежала у ног, продолжая булыжную мостовую, и серое небо было неразлично от воды и камня, и люди на набережной, доступные всякому постороннему притязанию, терялись в сырых морщинах обвислого, старческого дня, оставляя зрению лишь понурое недоумение лиц и скудость истощенных движений. Он, ломая спички, запалил пахитос, да тут же и бросил: табак, напитанный влагою, отзывал затхлым. Воздуху хотелось другого, – московского, тугого и морозного; но осень здешняя медлила иззябнуть, плескала повсюду густую грязь, размазывала очерки, и город виделся гадательно, как сквозь тяжелую несвежую дремоту. Окаменелая волжская вода теснила назад – к поникшим заборам, к разинутым глоткам подворотен, и он отступил в извилистый кишечный переулок.
Булыжник под ногами закончился, каблуки ударили по затоптанным доскам деревянного тротуара. Он подумал: так и в театре будет, на гулком паркете, и подумал: негоже! шаг нужен опасный, лакейский, и невесть в который раз вообразил, как со скрыпом распахнется резная дверь ложи, как из россыпи орденов глянут на него оробелые лица, – те, что прежде глядели со стен иконами! – и на краткий, добела раскаленный миг окажут убогую суть наместо привычной державной гримасы – ему! ему одному... Одному, повторил он вслух, не нашед в этом слове опоры. Да что слова? собственного естества, и того не найти. Ограбленный ум жалобно томился никчемной предсмертной отсрочкою, и он не знал, как с этим сладить, даром что в малые еще лета испытывал себя ради грядущего подвига: переходил речки по первому льду, лазил из окна в окно по мокрому двухвершковому карнизу, живьем глотал мух, – но вощеный паркет выходил страшнее неверного льда, гаже судорожной мухи на языке. Посулить и нашим, и вашим собачий кляп, выправить подорожную до Кургана, не то до Тобольска, глухо сгинуть в канцелярских нетях…
Он поворотил в трактир – не из голода, а в поисках убежища, спросил водки да ухи и в ожидании обеда принялся за вчерашний нумер «Ведомостей». Печатали проповедь митрополита «О добротолюбии власть предержащих»; объявляли текущий кредитному билету курс – шестнадцать с четвертью копеек серебром; извещали о премьере – «Счастливый рогоносец, или Что за честь, коли нечего есть», цена билетам обыкновенная. В Кургане газет не будет, а будет грошовый ломбер с ветхим столоначальником: манилья, баста… Половой поставил перед ним графинчик: уху извольте-с обождать. Он загодя поморщился, не ценя вкуса водки, но тут же выплеснул в рот рюмку, ценя конечную, почти детскую легкость чувства. Уж водка-то в Кургане будет. Непременно будет. Будет и шинель, до сального лоску заношенная, – навроде той, что давеча у посольства. Задавленный рассудок незапно встрепенулся, – запоздало представилась восторженная газетная гистерика: ура чудо-богатырям! зри, надутая Британия… Эх, любезные компатриоты, мать вашу еть через коромысло! британцы нам не враги, а самые учители: там паровая тяга, там Оуэн коммуны заводит, – а вам лапти при лучине ковырять пуще патоки…
Половой принес помятую медную солонку и приборы. Что уха, братец? – сей минут, великодушно обождите-с. Он вновь наполнил рюмку. В Москве, должно, классами манкировали и тоже пьют, и вместе с вакштафом клубится нескончаемый задорный спор: Gottmenschliche Einheit? Mauler твой Гегель, благочинных не видал!.. ваше здоровье, граждане младороссы.
К ним в артель он угодил полгода назад, – правоведам выдумали читать богословие, и Терновский, то и дело кусая заусенцы, пономарем бубнил с кафедры: лучшая юстиция есть добрая нравственность, коей основанием служит православие, и он не удержался сошкольничать: гражданин декан! а коли я на римском праве «Отче наш» скажу, мне экзамен зачтут? а после суток в карцере к нему подошел Гуров, малорослый, угреватый и отпетого поведения: сдается, ты нашей складки, критической – вечером загляни, потолкуем… И он заглянул, и мало погодя читал в подпитии своих «Былых кумиров»: вы меч сулили из цепей сковать, но вышла цепь, прочнее прежней втрое, – бесчинное властям поношение, статья 319-я! – и будто воротился домой из натруженно бесплодного странствия. Жизнь, как шкатулка фокусника, нежданно приоткрыла ему потайной ящичек: Гуров оказался Зандом, Богданов – Хлопушею, математик Гордиенко – Гракхом, а словесник Бородин – Вадимом, для скрытности и в память партизанов свободы; и сам он принял новое имя, звонкое, как тетива швейцарского фрейшица. Кто он был? ни яман, ни якши, синий студентский сертук в ряду многих: второкурсный на осьмнадцатом году возраста, в смутных муках своего неявного призвания и не в силах сообразить себя с общим пошлым понятием, журнальный отверженец с несчастною страстию авторства, – а стал мятежный младоросс, Телль! и положил быть достойну этого имени, и зажил в лад остальным, на смелую ногу, –
и был адъюнкт Сандунов, освистанный за акафисты Благочинию, – трое суток в карцере, на хлебе и воде, и следом мироточивый, приторно изумленный Терновский: неужто и вы по Владимирке норовите? –
и была ночная Сретенка, сплошь оклеенная рукописными прокламациями, – два дни напролет скребли перьями, не разгибая спины, выводили печатные буквы: граждане России! доколе нам?.. – злокозненная крамола, статья 280-я! – а заутра на улице угрюмо толклись благочинные да дворники отчаянно бранились по-матерну, сдирая со стен воззвания, – то-то было потехи! –
и был складчиною купленный тульский пистолет, один на девятерых, – беззаконное оружием владение, статья 222-я! – старинный, кремневый еще, зато отменно безотказный, – и в пригородной золотушной рощице рука дружески сживалась с рукоятью, а глаз со стволом, и порожние полштофы один за другим разлетались колючими брызгами, – и подвижное лицо Вадима мертвело в оскаленной ухмылке: Бог даст, ужо не по стклянкам пальнем! –


























