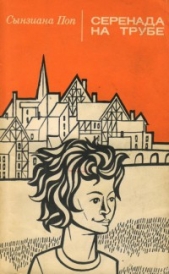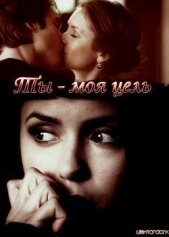Заботы Леонида Ефремова
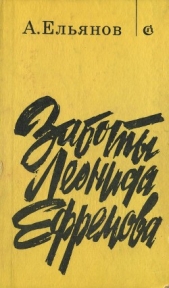
Заботы Леонида Ефремова читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда закончился школьный вечер, — а было поздно, около двенадцати ночи, — мой друг пошел провожать двух молодых женщин. Трое учителей шли медленно, не хотелось расставаться, мой друг читал стихи, он много их помнил. На улице пригородного поселка было тихо, безлюдно, стихи звучали как самое большое чудо, какое только может быть у людей. И казалось, что мир прекрасен, добр, талантлив и человечен.
А потом, проводив своих спутниц, друг пошел на станцию поселка, чтобы уехать в Ленинград, домой.
Издалека послышался голос электрички, долетел свет ее прожектора. Жалко было, что пришла она так скоро.
Но вот откуда-то из темноты вынырнули четверо парней, пробежали по перрону, толкнули моего друга так, что он упал, и даже будто не заметили этого, шутили, смеялись, покуривали в ожидании электрички.
Ночь, пустынный перрон, мгновенная остановка поезда и один против четырех — какие тут могут быть разговоры, объяснения? В таких случаях разумнее всего бежать, отступиться, каким бы ни был позор. Но ведь бывает, что не можешь простить себе ни трусости, ни позора. И неосторожный, отважный мой друг потребовал извинения. И получил удар в живот.
Его стали бить все четверо. Били руками и ногами, били зверски, насмерть, приговаривая именно это слово: «насмерть». Друг защищался зонтиком (не шпагой) сколько мог. Потом его повалили, стали топтать, и он потерял сознание.
Очнулся он в больнице. Я с трудом узнал его, перебинтованного и в кровоподтеках. Друг лежал на кровати без движения и все-таки старался шутить. Я поддерживал шутки, чтобы как-то разрядить обстановку. А самому хотелось найти тех четверых и растоптать их, хоть я и знал, что злобой злобу ничему не научишь. Что и говорить, это не выход, когда отмщение видится только в одном — стенка на стенку, кулаки на кулаки с криком: «Наших бьют!» Конечно, если бы я оказался с другом в те ночные минуты, не струсил бы, но это уже другой вопрос. А вообще-то ненавижу я даже самую мысль о побоище.
Я подавил свою ярость и стал думать, как же все-таки осуществить возмездие. Чувство чести возмущается, восстает, требует найти способ самозащиты для тех, кто не владеет приехмами самбо или бокса и не может постоять за себя в темном переулке в крайнем случае. Противно смиряться с участью слабого, с тем, что грубая сила — безнаказанна. И хоть тот, кого обидели, все равно не может быть отмщенным в полной мере, он должен быть уверен, что негодяям воздастся.
Но вот где они, те четверо? Ищи ветра в поле. Они уехали на той же электричке, что подходила к перрону. Они, должно быть, стояли в тамбуре, весело обсуждали случившееся, гордились своими кулаками и тем, что «проучили одного на всю жизнь».
Где они?! С кем они теперь? В чьей компании слывут за порядочных людей? Какие девушки любят их? А ведь кто-то их любит. Ведь матери родили их для человеческой жизни.
Ходят, бродят эти негодяи сейчас по земле, о которой так много и хорошо знает мой друг учитель, и не горит под ними земля, и улыбаются им какие-то люди, которых они потом могут изувечить, унизить, оскорбить.
Мой друг так и не смог окончательно поправиться — его стали мучить головные боли. Пришлось отказаться от преподавания.
А преступники так и остались ненаказанными.
Что же делать?
Кого это я спрашиваю так строго? Работников газеты, милиции, юристов, социологов? «Поймать и к стенке», — сказал бы тот криминалист в очках. А что сказал бы Мишка? Что-нибудь вроде «хочешь жить — умей вертеться»? А Самохлебов? Наверно, стал бы думать о том, какими путями лучше подобраться к сознанию человека, к его воле, чтобы убедить и научить...
А что, если четверо, избившие моего друга, и есть те самые, кто напал на меня?! «Поймать бы и к стенке!..» Нет, это уж слишком. А кто знает, что слишком, что не слишком в этом случае? И никто не даст мне никакого ответа, пока я сам все не узнаю и сам себе не отвечу, — ведь это я воспитываю те или иные качества в моих учениках. И я сам должен восстановить справедливость. А главное, надо попытаться понять, каким же образом воспитывать в каждом ученике прочное чувство чести и совести, чтобы оно само всегда срабатывало, как надежный предохранитель, в момент, когда кому-то вздумается — только еще вздумается — совершить бесчеловечный поступок.
Нужна мне встреча, позарез нужна встреча с Глебом. А пока хватит бродить по городу, устал.
Хотелось покоя хоть на время, но я не мог остановиться — все думал и думал, искал, бросался во все стороны. Что-то обваливалось, рушилось, и заново нужно было выкарабкиваться, строить, — голова уже начинала трещать. Простоты хотелось, ясности, улыбки, здоровья, и еще хотелось хорошо поесть, и не в столовке, а дома, где тебе всегда рады.
Дверь открыл Кузьма Георгиевич. Он смотрел на меня так, будто я был вовсе не я и не меня тут ждали. А я и сам недоумевал, почему позвонил, ведь у меня есть ключ, и почему именно Кузьма Георгиевич открыл мне дверь, а не любой другой жилец нашей квартиры.
— Мне послышалось, что звонок был ко мне, — наконец заговорил Кузьма Георгиевич не без смущения.
Я тоже смутился. С чего это вдруг позвонил старику, он и так всегда кого-то ждет и мается своим ожиданием, скрывая его. Я, наверно, задумался, и рука сама собой нажала на звонок.
— Простите, я забыл ключ. А моя хозяйка не услышала бы, она уже, верно, спит.
— Не извиняйся, Леня. Все правильно. Для меня в мире так мало осталось событий, что и звонок в дверь — приятная неожиданность. Ты встретил своего ученика?
— Еще нет. Завтра практика.
— Тогда иди поскорее спать. Тебе надо отдохнуть, собраться с мыслями. Ты должен прийти к ним во всеоружии.
Глава четвертая
Еще рановато, но парни уже толпятся возле училища, как всегда. И толкаются, как всегда, и покуривают втихаря, тоже как всегда, и косточки перемывают всем и каждому, кто проходит мимо: кто как одет, кто как пострижен, кто как держится. «Здравствуйте». «Здрасте», — отвечают нестройным хором. Вежливые, почтительные, но так улыбаются, что не поймешь — приветливость ли это, смущение или готовность осмеять тебя «мелким смехом», когда ты скроешься в дверях.
Вон стоит дружок Бородулина из токарной группы. Сердце забилось сильнее. Спрашиваю с подчеркнутым равнодушием:
— Ты Глеба видел?
— А чего, я за ним бегаю, что ли?
— Тебя спрашивают, видел ты его или нет? — сержусь я.
— Ну, не видел.
— А без «ну» можно?
— Ну, можно.
Не заводись, Ленька, не заводись, Леонид Михайлович, тебе еще пригодятся сегодня твои нервы. Тебе отвечают вполне в духе пацанских законов. Чтобы и друга случайно не подвести, и ответить достойно. А по глазам тебе и так видно, что не знает он, где его друг Бородуля. Сам поищи. А к чему, собственно, искать? Придет он и встанет к верстаку. И не выслеживай ты его заранее, пусть все идет как обычно.
В коридорах шумок. Возле гардероба тишина: уже тепло, май, — нечего сдавать. Из широкого окна выглядывают девчонки. Дежурные. Им скучно, они строят глазки ребятам. Румяные, светлые у девчонок лица. И Таня с ними. Сидит молчаливая, сдержанная, просто-напросто дежурная по гардеробу. Как будто не было субботы, не было никакого вальса. Удивительные вы, девчонки, никак вас не понять. Переодень вас — и вы королевы или инфанты.
— Татьяна, ты Глеба сегодня видела?
— Вот еще. Что я, бегаю за ним?
— Ладно, не сердись, он мне очень нужен.
На лестнице — как на муравьином тракте: все спешат. И всем хватает места на широких ступенях, все как будто разогреваются перед началом дня — не ходят, а бегают вверх и вниз. Парней и девушек почти пятьсот человек, а знаешь, кажется, всех. И тебя все знают: «Здравствуйте, Леонид Михайлович». «Здравствуйте». «Здравствуйте». «С добрым утром».
Утро и в самом деле доброе. Для них для всех. На какое-то время забывается и моя беда. Я шагаю по широким ступеням, уже, как обычно, думая о предстоящем дне, о делах, о встрече с группой. Солнце светит в лицо. Я отворачиваюсь от лучей, вижу бледно-розовые стены, чистенькие, без царапин, — на миг вспоминаются прежние, еще до перестройки здания, когда учился здесь я: наши стены были зеленовато-грязными, с полосами и шелушением. Теперь все по-другому. И кажется странным, что такая орава мальчишек бережет всю эту чистоту, — никто не осмелился оставить здесь, на стенах парадной лестницы, даже царапину. Никто не обломал ни листочка на пальмах в деревянных кадушках. Парадная лестница светится, сияет в лучах солнца, и все легче мне шагать, спокойнее у меня на душе, и все, что было под мостом, кажется мне каким-то недоразумением.