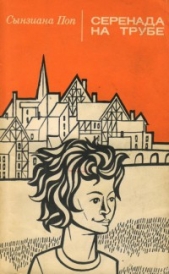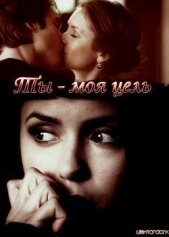Заботы Леонида Ефремова
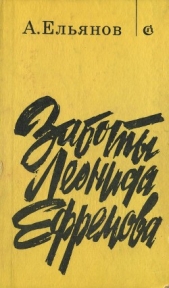
Заботы Леонида Ефремова читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот я иду сейчас и свободно помахиваю руками: левой, правой. И пока я в рубашке, в пиджаке, мне нечего стыдиться, никто ничего не знает, не видит, но мне-то известно, что на правой моей руке, как клеймо, отпечаталось сердце, пронзенное кинжалом и стрелой.
Сколько раз я хотел его выжечь огнем. Было страшно. Сколько раз хотел вытравить кислотой — не смог. Да и что вытравлять? Разве дело в надписи? Чем выжжешь и вытравишь то, что было на самом деле и будет помниться до смерти? «За измену!» Что я имел в виду? Или что хотели этим сказать те, кто выкалывал мне эту надпись? Не изменяй любимой своей, а иначе настигнет месть — кинжал или стрела в сердце? Или это ей, изменившей мне, должен был я так отомстить? До чего же это наивно, по-детски или невероятно жестоко, как в каком-нибудь первобытном племени или в неправдоподобно буйных страстях, знакомых мне только из книг. А может быть, я должен понимать эту надпись так: не изменяй самым заветным своим принципам, а иначе тебя неизбежно настигнет строгая кара?
Да что я понимал тогда? Мне, наверно, хотелось просто-напросто быть похожим на товарищей, не отстать от них ни в чем.
С утра до вечера бродили мы компанией по пыльным улицам небольшого шахтерского городка в Кузбассе. Высоченные черные терриконы, горы пустой породы, как пирамиды, возвышались над домами, они манили своими крутыми боками и остроконечными вершинами, но игры мы устраивали не возле шахт, а во дворах, подальше от взрослых, чтобы никто не заметил, как мы играем в «орлянку», или в «секу», или еще какую-нибудь «выгодную» игру. Всем хотелось разбогатеть разом. Стать такими богачами, чтобы можно было скупить все, что продается в магазинах съестного. Голод нас мучил всегда — и днем, и даже ночью. С едой было у всех плохо после войны. В поисках удачи, или богатства, или хоть какой-нибудь еды мы, устав от наших однообразных копеечных игр, бродили туда-сюда: к пекарне, чтобы надышаться запахом хлеба, к Дворцу культуры, чтобы проскользнуть незаметно на очередной сеанс, или шли к магазину в надежде раздобыть «на зубок». Мы метались, как стайка воробьев, мы знали и не знали, куда незачем идти. Любое предложение кого-нибудь из компании принималось быстро и охотно: что бы ни делать, лишь бы делать, куда бы ни идти, лишь бы шагать к чему-то новому, манящему.
Много у меня было тогда корешков. Как-то особенно вольно, безнадзорно мы жили в те дни. Никто из взрослых не присматривал за нами. У кого-то была только мать, у кого отец, как у меня. Родители работали с утра до вечера, им было не до нас. А нам было не до них, мы жили своей жизнью. Замкнуто, своей компанией. Пока мы вместе, нам казалось, что мы все можем и от всего защитимся. Но на самом-то деле, конечно же, нам только казалось, что мы всесильны и что правила, по которым мы жили, — самые справедливые. Любые, даже очень «загибонистые» фантазии, какие только приходили в наши детские головы, принимались нами как истинное. И без помощи взрослых мы не могли защититься прежде всего от самих себя, от собственной глупости и жестокости. Мы не понимали, что такое жестокость, только сердцем чувствовали обиду, но скрывали ее, ведь стыдно «нюнить». Не защититься нам было и от влияния распространенной у мальчишек в те времена моды: в одежде — надо было брюки носить заправленными в носки, а кепочку — надвинув на глаза; в манере держаться — ходить и стоять положено было боком, слегка приседая и сутулясь, а говорить полушепотом, цедить сквозь зубы, а смотреть на все и всех с прищуром, с пристальной нахалинкой. А то, как жестоки мы были друг к другу, я понял много позднее.
Кто же были они, мои товарищи, двенадцати-, четырнадцатилетние мои кореши, помнится очень смутно. Зато как принимали в компанию «на новенького», никогда не забыть.
Мы шли в полуразрушенную старую церковь, она стояла на пустыре, на отшибе, рядом с кладбищем. Оставляли на улице кого-нибудь «на атасе», а сами забирались в темный сырой подвал через узкий лаз, зажигали коптилку — маленький пузырек с фитильком, рассаживались на соломе в кружок так, чтобы новенький оказывался посредине. И начинались расспросы. Кто и откуда? Что знаешь, что умеешь? Кто родители? Рассказывать о себе надо было со всеми подробностями, чем длиннее, тем лучше.
Потом начинались испытания. Сначала легкие, хоть и загадочные. Кто-нибудь из «старичков» компании протягивал перед новеньким правую руку сначала ладонью вниз и дул на пальцы. «Что это значит?» — спрашивал он строго. «Я умею молчать», — должен был ответить тот, кто знал правила. Потом рука поворачивалась ладонью вверх, и снова экзаменующий дул на пальцы. «Я не сексот», — должен был ответить посвященный. Потом у новенького просили волосок с головы, и он давал каждому из нас по волоску, если хотел стать другом «на все века». А потом новичок должен был подержать свою руку над огнем коптилки «до первой боли». А потом начиналась борьба, новичок «волохался» с каждым из нашей компании, выясняя, на каком же он месте по силе и ловкости. Потом ему еще предстояло сыграть в «орлянку», в «секу», в «очко» — тоже для выяснения своего места среди нас. И наконец приходило самое трудное испытание — наколка.
Это уже я помню по себе. Обязательное для всех «клеймение» устраивалось все в том же сыром и сумрачном подвале заброшенной церкви. Для меня это место тогда было еще особенно таинственным и суровым. Помню, все расселись на полу, на соломе, а я и татуировщик оказались в центре круга.
— У нас нет черной туши, — сказал он. — Будем жечь галошу. А пока я нарисую тебе на руке карандашом.
И тощий фиксатый парень стал рисовать мне чуть повыше запястья сердце, пронзенное кинжалом и стрелой. Боли я пока не чувствовал, но мурашки бежали по телу от страха и таинственности.
Запахло жженой резиной. В консервной банке горел толстый, кривой кусок шахтерской галоши. Черная сажа, разведенная в воде, вскоре должна была войти в мое тело, под кожу, и остаться там на всю жизнь, чтобы я никогда не забывал, что со мной может случиться «за измену».
Правая моя рука, почему-то очень тоненькая, безвольно лежала на колене татуировщика. Резина догорала, рисунок и слова были уже полностью выведены карандашом; бледные, странные, какие-то колдовские лица мальчишек, едва освещенные крошечным пламенем коптилки, неподвижно вырисовывались в полутьме, влажным загадочным блеском светились глаза — все смотрели на мою руку и на пальцы «накольщика». Белой ниткой он связывал воедино три иглы, оставляя только самые кончики, острые и уже прокаленные в огне.
— Не мандражируешь? — спрашивал он меня время от времени.
— Нет, что ты, — отвечал я бодро, едва сдерживая себя, чтобы не вскочить и не удрать куда-нибудь подальше из темного зловещего подвала.
И вот началось. Одной рукой татуировщик стянул мне кожу, а другой стал покалывать часто-часто, с подковыром, как раз по узкой карандашной полоске. Кровь выступила наружу, маленькие черные капельки. Слезы выкатились из моих глаз, но никто этого не увидел.
— Ты не бойся. Все будет как надо. Только не дергайся, — успокаивали меня пацаны. Им-то что, они уже прошли свое испытание.
Долго, целую вечность впивались иглы в мое тело, я слышал легкое потрескивание — это лопалась кожа, когда ее подергивали снизу вверх. Боль притупилась, все заметнее начинала ныть спина от неудобной позы, — несколько раз устраивал передышку и татуировщик. Он улыбался, курил, разглядывал свое художество, любовался им, давал советы:
— Потом замотаешь тряпкой, скажешь отцу, что обжегся. Рука распухнет, но ты не дрейфь, ничем ее не лечи и не сдирай коросту, а то пропадет вся наколка. Дней через пять все будет в ажуре.
И снова иглы в тело, пятнышки крови, а потом началось все заново, и на этот раз кончики иголок уже обмакивались в черную влажную сажу.
— Эх, жалко, нет настоящей туши, — приговаривал мой мучитель, — а то я бы тебе такое нарисовал! Могу орла на груди, могу крест и могилу, могу имя на пальцах, могу даже змею и женщину на ноге. Ты терпеливый, хочешь, сделаю? Я тушь где-нибудь достану.