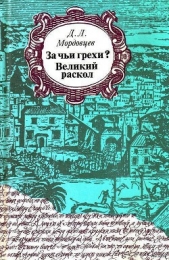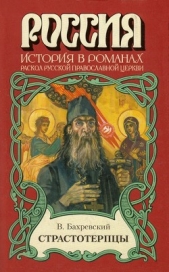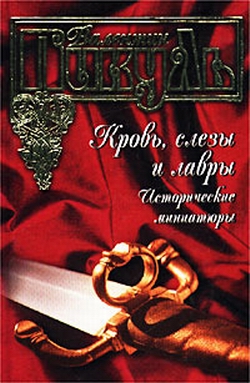Святой патриарх
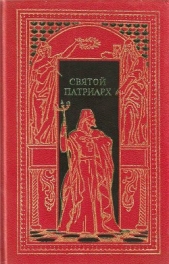
Святой патриарх читать книгу онлайн
О союзе аскетического раскола с неудержимой вольницей в один из сложнейших периодов отечественной истории рассказывает известный русский писатель Даниил Лукич Мордовцев в своих произведениях: романе «Великий раскол», повести «За чьи грехи?».Главными героями книг являются патриарх Никон, протопоп Аввакум, Степан Разин и, конечно же, тревожное и смутное время
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Голос царя сорвался. Сам он дрожал. Весь собор заколыхался сдержанным, глухим ропотом. Многие испуганно крестились словно бы перед ударом страшного грома после молнии. Даже у Паисия, всё время сидевшего неподвижно, статуйно, ходенём заходила седая голова под высоким клобуком.
— Чем Русь от соборной церкви отлучилась? — спросил он строго.
— Тем, — закричал подсудимый запальчиво, — что Паисий газский перевёл Питирима из одной митрополии в другую и на его место поставил другого митрополита я других архиереев с места на место переводил же! А ему то делать не довелось, понеже он от ерусалимского патриарха отлучён и проклят… Да хотя б он и не еретик был, а ему на Москве долго быть и не для чего: я его митрополитом не почитаю, у него и ставленной грамоты нет… Всякий мужик наденет на себя монатью — так он и митрополит! Я писал всё об нём, а не о православных христианах.
Он сам чувствовал, что слишком далеко зашёл — это был конь, закусивший удила… Он спохватился было, хотел увильнуть, но было уже поздно: вырвавшиеся из уст сильные выражения — обвинение в еретичестве всей страны — нельзя было поймать и воротить назад: они потрясли весь собор и погубили неосторожного.
Последовал всеобщий взрыв негодования. Москвичи точно забыли о присутствии царя и патриархов; они одно помнили — что все они оскорблены и опозорены, что им, самому православному под солнцем народу, бросили в глаза укор в неправославии, в еретичестве, в латынстве!.. Это ли не обиды?! Да за один намёк на похлёбство и на потачку со стороны Лжедмитрия ляцкой веры, латынству — Москва сама себя вверх дном опрокинула, в золу обратила этого Лжедмитрия и золою выстрелила на ветер, перетрясла потом, как запылённые онучи, всю русскую землю — из-за одного только слова «латынство»… А тут вся земля и церковь якобы облатынились! Да после этого жить нельзя! Москву осрамили перед всем светом!..
Все повскакали с своих мест, замахали руками. Послышались крики:
— Он отчёл всю Россею! всех нас! Этого нельзя!
— Он назвал еретиками всех нас, православные! Что ж это будет?
— Указ учинить! Али мы собаки латынские! Никон стоял, ошеломлённый общим взрывом, и только оглядывался по сторонам. Царь молчал — он едва держался на ногах от усталости и волнения.
С трудом патриархам удалось утишить бурю; но дальнейшее чтение грамоты Никона — этого поличного — шло уже вяло. Все утомились. Даже у привычного Алмаза Иванова пересохло в горле.
Наконец, грамота кончена. Алмаз Иванов умолк и поклонился. Наступила тишина.
— Бог тебя судит! — горько сказал Никон, обращаясь к царю. — Я узнал ещё на избрании своём, что ты будешь ко мне добр шесть лет, а потом буду я возненавиден и мучен.
Слова эти передёрнули царя.
— Святые отцы! допросите его, как он узнал это на избрании своём?
Никон не отвечал, а только вздыхал, глядя на распятие.
— Он же, Никон, сказывал, что видел метлу звездою, и от того будет московскому государству погибель: пусть скажет, от какого духа он то увидал? — заговорил один архиерей.
— И в прежнем законе такие знамения бывали — на Москве это и сбудется, — мрачно отвечал подсудимый. — Господь пророчествовал на горе Елеонской о разорении Ерусалима за четыреста лет.
Паисий встал: он видел, что царь не в силах больше стоять, и потому, благословив его, указал рукою на его место. Никону же показал знаком, чтоб он уходил.
Поклонившись до земли и проговорив глухим, упавшим голосом: «Простите меня, православные!» — подсудимый вышел вслед за распятием, глубоко поникнул головою.
Глава XII. МОРОЗОВА У АВВАКУМА
В то утро, когда в Москве начался суд над Никоном, враг его, непримиримейший из всех врагов, Аввакум, сидел на охапке соломы, брошенной на земляном полу в углу арестантской келейки подмосковного монастыря Николы на Угреше, и, положив на правое колено измятый клочок синей бумаги, писал что-то деревянною палочкою, макая в стоявший на полу глиняный черепочек.
И Аввакум многое пережил в эти последние два года. Он сидел в заточении то в том, то в другом монастыре, мужественно отгрызаясь от всех своих врагов, вымучился полтора года в тягчайшей ссылке на Мезени, терпя холод, голод и побои, был расстрижен и теперь привезён в Москву тоже на суд вселенских патриархов.
Тюрьма, в которой он теперь томился, представляла кубическую каменную коробку в сажень длины и ширины, с узеньким оконцем за железною решёткою с острыми зубьями. В этой каменной коробке ничего не было — ни стола, ни скамьи, ни кровати; вместо всего этого в угол брошена была охапка соломы, на которой и сидел расколоучитель. По сырым стенам виднелась позеленевшая плесень, местами прохваченная морозом и заиндевевшая; оконце тоже промёрзло так, что если б в него солнце и заглянуло, то оно не в силах было бы пробить своими лучами эту сплошную льдину, в которую превратилось стекло. На одной из стен каменной коробки, в переднем углу, виднелось подобие большого осьмиконечного креста и грубое изображение руки с двуперстным сложением: эти символы Аввакум выцарапал в каменной стене своими когтями, которые отросли у него, как у собаки.
Аввакум много, почти неузнаваемо изменился с тех пор, как мы видели его у Морозовой, а потом у Ртищевых вместе с Симеоном Полоцким. Седые, длинные и курчавые волосы его были острижены, как у арестанта: это была уже не поповская, не иконная голова, а простая колодницкая. Но тем рельефнее теперь выступала её угловатость и ширококостность; в этой ширококостности темени и затылка и в этой сдавленности и вогнутости лобной кости сказывалось железное упрямство мономана, фанатически преданного мрачному, суровому идеалу непоколебимой выносливости. Он был одет в дырявый нагольный тулуп, из-под которого виднелись ноги, обутые в лапти и пёстрые онучи, перевитые мочалками. По временам он задумывался, клал палочку, заменявшую ему перо, на черепок и согревал дыханием закоченевшие от мороза пальцы. Но это, по-видимому, не помогало: по холодной тюрьме распространялся только пар от дыхания, но теплее не делалось.
— Господи! дунь на руце мои дыханием Твоим! — страстно обращался он к кресту, выцарапанному им на стене. — Ты пещь огненную охладил некогда в Вавилоне дуновением Твоим: согрей ныне дыханием Твоим божественным персты мои, да прославлю имя Твоё, многомилостиве!
И он снова нагибался и чертил палочкой по бумаге, разложенной на правом колене. А потом начал бормотать про себя вслух написанное:
«Анисьюшка! чадо моё духовное! аль есмь измождал от грех моих и от холоду в темнице моей и не могу о себе молитвы чисты с благоговенством приносити. Ей! не притворялся говорю, чадо! Не молюся, а кричу ко Господу, скучу, что собачка-пёсик на морозе. Пальцы мои в льдины обращаются, всё развалилося во мне, душа перемёрзла моя, на сердце снег, на устах иней. Поддержи мою дряхлость ты, младая отроковица, стягни плетью духовною душу мою, любезная моя! Утверди малодушие моё, Богом избранная, вздохни и прослезися о мне!»
Он помолчал и снова стал дышать в застывшие ладони. По щекам его текли слёзы…
— Дунь, Господи! согрей меня! Вить солнце и огнь пекельный в Твоих руках! — опять закричал он, страстно глядя на крест.
Потом опять нагнулся к бумаге и стал читать: «Слушай-ка, Анисья! о племени своём не больно пекись: комуждо и без тебя промышленник Бог, и мне, мерзкой псице. Забудь, что ты боярышня, знатного роду; а умеешь ли ты молоть муку? Мели рожь в жерновах, да на сестёр хлебы пеки или в пекарни шти вари, да сёстрам и больным разноси. Да имей послушание к матери Меланин, не рассуждай о величестве сана своего, яко боярышня, богачка и сановница — отрицайся мысли сея и оплюй её! Плюй на всё, что не от Бога!»…
Он положил бумагу в сторону, поднялся с соломы и упал на колени.
— Вергни ко мне солнце сюда. Тебе всё возможно! Дуни летом в темницу мою! — молился он.
За окошком тюрьмы послышался скрип саней, бубенчики и звяканье упряжи…