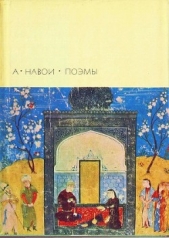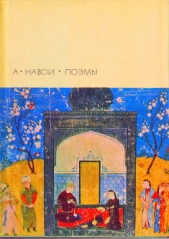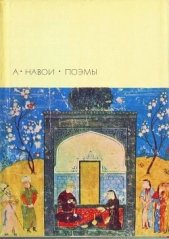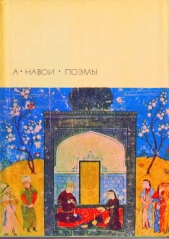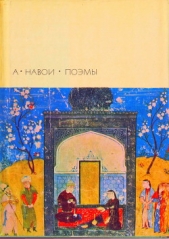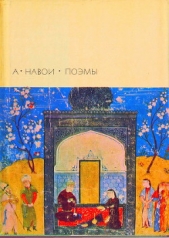Когда Меджнуном посланный к Лейли
Зейд, наконец, достиг ее земли,
И доступ вскоре получил к луне,
И с ней увиделся наедине, —
О нем, испепеленном, рассказал,
О жалком, о влюбленном рассказал.
У пери закружилась голова,
Едва услышала его слова,
Дыханье стало пламенем полно,
И сердца сталь расплавило оно.
То амброю пропитана коса,
Иль дым над головою поднялся́?
Она, как черная коса ее.
Вся извивалась, и краса ее
Неугасимым пламенем зажглась,
Вода печали потекла из глаз:
«Твои слова, как душу, я приму:
Вернул ты душу телу моему.
Недуга моего целитель ты,
Не человек, а небожитель ты!»
И быстро побежала в свой покой,
И вышла со шкатулкой дорогой:
Там были редкостные жемчуга.
Сказала: «Весть твоя мне дорога,
Она ценней подарка во сто раз,
Но мало денег у меня сейчас…
О Зейд! Не скрою жадности своей:
Стократ была бы весть твоя ценней, —
Я недовольной все-таки была б!
О, где же он, любви безумный раб?
Ему письмо страданья напишу!
Я милости и верности прошу!
Свою печаль я передам письму,
Доставь его безумцу моему,
Ко мне с его ответом поспеши!»
И Зейд сказал: «Я раб твоей души,
Но торопись: меня пославший ждет,
К несчастью промедление ведет!»
Потребовав чернила и калам,
Чернила со слезами пополам
Смешав, Лейли закончила письмо, —
В нем сердце запечатано само!
И Зейд в пустыню поспешил с письмом,
А там в очаровании немом
Дни одиночества Меджнун влачил,
И Зейд ему послание вручил.
Упал он, уподобившись тому
Искомканному, смятому письму,
И молвил так: «Благословен посол!
С каким известьем ты ко мне пришел?
Единым словом исцеленье дай,
Открой письмо, ее веленье дай!»
Кто начал эту книгу в добрый час,
Продолжил так правдивый свой рассказ:
По милом сыне убивалась мать,
Отец не в силах был уже страдать,
Хотя решил: непоправимо зло, —
Стремленье к сыну верх над всем взяло.
Быть может, думал он, безумный сын
Над скорбью сжалится его седин,
И плач родительский, истошный крик
Безумья свяжет, может быть, язык,
Язык отца найдет сто тонких слов,
И вновь Меджнун войдет под отчий кров…
Решил: надежда сбудется его!
И повезла верблюдица его
В пустыню, и прошло немало дней,
И груду серых он нашел камней,
Он жалкие развалины нашел,
Он сына, опечаленный, нашел!
Безумному развалины сродни:
Он был разрушен больше, чем они.
Чем занят он, отшельником живя?
То убивает жалкого червя,
То под горою глину роет он,
Столбы из этой глины строит он,
То голову посыплет прахом он…
То, одержим внезапным страхом, он
Садится быстро на́ стену верхом,
Трясется весь в отчаянье глухом,
Кусает ногти, рукава жует…
То запоет он, как сова поет,
И молкнет, обессиленный, потом,
От пыли чистит филина потом,
И, дерзкая, познав свои права,
Ему садится на руку сова,
Садится филин и глядит вперед,
Рога о голову Меджнуна трет.
Господь раненья в голову нанес, —
На ней ранений больше, чем волос.
В глазах окровавлённых — сто сучков,
Их больше, чем ресничных волосков.
Черты на крыше выведет впотьмах,
Из этих черт невольно выйдет: ах!..
И был отец несчастьем сразу смят,
Сыграло с ним страданье, сделав мат!
Воскликнул он: «Подобие чего
Вот это загнанное существо?
Ужели человеком назову?
Ужели сына вижу наяву?»
Отшельник страшен был, а шаг тяжел,
И все ж отец к Меджнуну подошел.
Но в сторону безумец отбежал,
Как будто страх отец ему внушал,
Как будто им сыновний долг забыт.
Заплакал тут седой отец навзрыд:
«О, должен ли меня страшиться ты!
О, сердца моего частица ты,
А сердце потеряло ранам счет!»
И понял сын: отец его зовет,
И встречей счастлив он с отцом родным,
И, вздох издав, упал он перед ним.
Отец нагнулся, поднял сына он,
С Меджнуном слился воедино он.
И крепко два страдальца обнялись,
Как буквы однородные слились, [84]
В смятении кричали каждый миг,
И это был печали страшный крик.
Когда же улеглась тоска сердец,
Воскликнул так дряхлеющий отец:
«Несчастный сын! Ты — часть моей груди!
Сердечных ран моих не береди!
Ты плоть моя: ты ранен — ранен я,
Ты бездыханен — бездыханен я.
Еще не начинались дни твои,
А кровь твоя текла в моей крови.
Я требовал тебя в мольбах своих, —
Кормил голодных, одевал нагих,
С молитвою ложился и вставал
И милостыню бедным раздавал.
И я тебя нашел на склоне дней,
Ты стал единой радостью моей.
Сто капель крови я терял, пока
Ты насыщался каплей молока.
Колючка малая в твоей ступне
Вонзалась острым жалом в печень мне.
И свет наук твои глаза привлек, —
Тебя на первый я привел урок,
Чтоб с добрыми ты чувствами дружил,
С науками, с искусствами дружил,
Чтоб знание, достоинство и честь
Сумел ты самым высшим благом счесть.
Когда ты уходил и приходил,
За каждым шагом я твоим следил.
Я думал так: настанет мой черед,
От Истинного смерть ко мне придет,
Как некогда к родителям моим, —
Таков удел, назначенный живым, —
Тогда жилище взглядом обведу,
Тебя с собою рядом я найду, —
Ты будешь то в ногах, то в головах,
И я легко земной покину прах.
Когда простится с бренным телом дух,
Увидишь: дней моих огонь потух, —
От горя скрутишься веревкой ты,
Забьешься бабочкой неловкой ты,
Мне рай твоя молитва отопрет,
Тобою озарится мой народ.
Я думал: встречу смерть свою светло,
Мое в народе имя не мало,
И не мала и не пуста казна:
Чужому не достанется она.
Не даст наследник расточаться ей,
Не устремятся домочадцы к ней,
Не страшен ветер моему шатру,
Найдется крепость моему добру,
Мой дом родной не будет знать невзгод,
И в радости пребудет мой народ…
И время наступает: я умру.
Ночь тягот мчится к моему утру,
Сменило утро смерти ночь мою,
И я обличье смерти узнаю.
Свеча моя вот-вот сгореть должна,
Один твой вздох — погаснет вдруг она.
Душа вот-вот отправится в полет,
Один твой крик — и крыльями взмахнет.
Ты не был волен в том, — не прекословь, —
Что пала слабая душа в любовь,
Но есть конец, пойми, для всяких дел,
Но есть для каждой гибели предел.
Иль не видали мы людей любви?
Иль не топтали мы путей любви?
Кто в битве с нею голову сложил,
Тот разума презренье заслужил,
Тот не утонет, кто в пучине вод
Ногами и руками бить начнет,
Но тот, кто не старается спастись,
Не может не погибнуть, согласись.
Чтоб выбраться из чаши, муравей
Не силу — ум спешит собрать скорей
Не только немощь людям дал господь, —
Лекарство дал, чтоб немощь побороть.
Сверни, мой сын, с опасного пути,
Старайся думать, как себя спасти.
Не сразу станет мудрым ученик,
Не сразу станет сахарным тростник,
Не сразу исцеленье ты найдешь,
Но все же к просветленью ты придешь.
Сто лет прожить захочет человек, —
Терпенья пусть возьмет на целый век.
Увы, тяжел на минарет подъем,
Зато легко сойдем с него потом.
Безумия вершина под тобой:
С горы спустись знакомою тропой.
Доколе без тебя мне горевать?
Покоя без тебя не знает мать,
От ночи до утра не знает сна,
С утра до ночи слезы льет она.
Взывает мать: «Мой сын, ребенок мой!»
Рыдает мать: «О верблюжонок мой!»
И так о камень бьется головой,
Что даже камень плачет, как живой.
Лицо свое, что горем обожглось,
Осыпав камфарой седых волос,
Тоскует мать, твоей тоской полна,
Ты падаешь — и падает она.
Последний или предпоследний вздох, —
Вот все, что ей теперь оставил бог.
Ушла надежда наша, — не вернуть.
Пора нам собираться в дальний путь.
Мой бедный сын! Ушел из дому ты, —
Ужель отдашь его чужому ты?
Тепло твое хранит твоя постель, —
Мой бедный сын! Ей дашь остыть ужель?
Умрем из-за тебя. Подумай сам:
Что ты ответишь гневным небесам?»
И, выслушав прекрасные слова,
Меджнун к ногам отца припал сперва,
Ресницами подмел он каждый след
Отцовских ног и так сказал в ответ:
«О ты, чье племя для меня кыбла!
О, да сгорит печаль твоя дотла!
Лекарства мне ты приготовил в дар,
Но в пепел превратил их мой пожар.
Терпенье, говоришь? Его унес
Поток моих кровавых, жарких слез!
Зачем твоя безжалостная речь
Клеймом клеймо старается прижечь?
Где мужество, где право я возьму,
Чтоб отвечать призыву твоему?
Твое желанье для меня приказ,
Как ты велишь, так поступлю сейчас.
Что я могу сказать в ответ тебе,
Когда ответа нет в моей судьбе?
А был бы вправе дать тебе ответ, —
Свидетель целый свет, — сказал бы: нет!
Но всюду заклеймен позором я,
Судьбы наказан приговором я,
Зажжен любовью, связан я судьбой.
Лишен я воли над самим собой.
Меня спасать остерегайся ты:
Меджнуна видишь, а не Кайса ты!
Не кипарис, — трава перед тобой,
Уже трава становится золой, —
Быть может, смерч, кружащий на земле,
Вид кипариса вновь придаст золе!
Когда, как солнце, ты пришел сюда,
Увидел ты: я — черная звезда.
Зачем не знал я ранее тебя?
Бежал я от незнания тебя!
Вовеки недостоин я того,
Чтоб ты со мною признавал родство!
Пути зверей, я понял, не для нас,
Не может человеком стать Наснас.
Хотя собаки хуже всякой я,
Но быть хочу твоей собакой я:
Неверности не ведает она.
За человеком следует она.
Безумный пес в глуши пустынной я,
Но прихожу к тебе с повинной я.
Захочешь — пса прогонишь ты пинком,
Захочешь — пожалеешь, примешь в дом.
И точно так же ты меня прими,
Я буду снова жить между людьми!
Разумными считай мои дела,
Да не коснется их твоя хула!
Виновен я, но есть один закон:
Кто повинился, должен быть прощен».
Замолк Меджнун, и с быстротой слуги
К верблюдице направил он шаги,
И сразу — не забыл сноровку он —
От сбруи отвязал веревку он,
И к шее привязал ее своей
Одним концом, и подал поскорей
Другой конец отцу, и произнес:
«Я твой привязанный за шею пес!»
И, молвив так, он посреди пути
На четвереньках принялся ползти.
Отец веревку с шеи снял с трудом,
Спеша вернуть безумца в отчий дом…
Когда безумцем я проклятым стал,
Я родины своей вожатым стал.
У Кайса дом, отец… О Навои,
Ты без отца, и к дому нет любви!