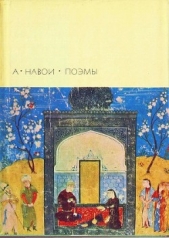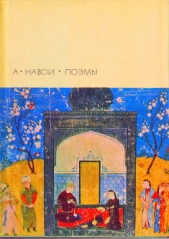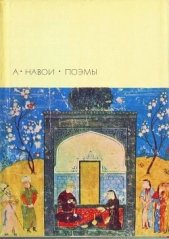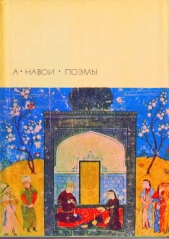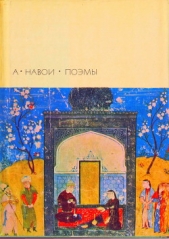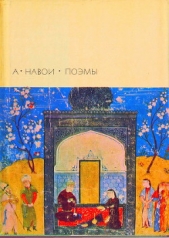Кто рассказал о ночи роковой,
Украсил так рассказ печальный свой:
Увидели родные на заре,
Что Кайс опять не спал в своем шатре,
И вороты порвали на себе,
Взмолились небу о его судьбе.
Отец, рыдая, утешает мать,
Велит людей на поиски послать.
И люди, наконец, следы нашли:
Вели следы к становищу Лейли.
И люди в стан пришли по тем следам
И новые следы открыли там:
Одни — глубоко вдавлены в песок,
Как будто путник тяжкий вьюк волок,
Другие — как создания пера,
Как будто пери здесь прошла вчера,
А третьи — в глушь пустынную ведут,
Возникнут вдруг и снова пропадут…
И люди в глушь пустынную пошли,
Песчаный холм увидели вдали.
Приблизились, разрыли… о творец!
Там Кайс лежал, недвижный, как мертвец.
Пустынный вихрь песком его занес!
Тут хлынули из глаз потоки слез:
«Убит, — один другому говорит, —
Убийцею тайком в песок зарыт».
И светлый мир им показался пуст…
Вдруг слышат: вылетает вздох из уст.
«О небеса! Он жив, он жив еще!»
Один из них взял Кайса на плечо,
И люди тронулись в обратный путь…
Разорвалась родительская грудь,
Когда больной вернулся в отчий дом!
Но Кайс, придя в сознание с трудом,
Не знал, как объяснить поступок свой,
Стоял с опущенною головой.
Обрушились упреки на него,
Во всем нашли пороки у него.
Один сказал: «Тебя сломила страсть?»
Другой: «Ты страстью насладился всласть?»
А третий: «Будь сильней, сломи ее!»
И что ни слово — острое копье,
Вонзились в сердце резкие слова,
Осыпана камнями голова —
Невидимою грудою камней:
Невидимые, бьют они больней!
Один сказал: «Наставить должно ум».
Другой: «Избавить от опасных дум».
А третий: «На ноги наденьте цепь!»
Но Кайс молчал, вперяя взоры в степь.
Мечтал он, чтобы день короче стал,
Он с нетерпеньем темной ночи ждал,
И только звезды стали высыпать,
Он к племени Лейли пошел опять.
Опять родители к его шатру
Направились поспешно поутру,
Опять его нашли в степной глуши,
И был сильней недуг его души.
Опять слова — острей змеиных жал…
А ночь пришла — опять он убежал.
И поняли родители тогда:
У них — непоправимая беда.
Слова напрасны: кто безумен, тот
Безумным слово разума сочтет.
Собрали знахарей и лекарей —
И колдунов, чтоб вылечить скорей.
Росло в дому советчиков число, —
Безумие любви быстрей росло,
Недуг страдальца был неисцелим…
И дети бегать начали за ним,
И вот Меджнуном прозван с юных лет.
«Меджнун! Меджнун!» — ему неслось вослед.
Но что ему, сошедшему с тропы,
Презрительные прозвища толпы,
Когда в глухое впал он забытье,
Когда он имя позабыл свое,
Народа своего, своей земли, —
Одно лишь имя помнил он: Лейли!
Когда: «Лейли» — он голос поднимал,
Меджнун пред ними — каждый понимал.
Он шел по вечерам и по утрам
К становищу Лейли, к ее шатрам,
Чтоб воздух племени ее вдохнуть,
И камнем ударял себя он в грудь.
Влачил вокруг шатров страданья цепь,
А прогоняли — возвращался в степь.
Кто написал страданья книгу, тот
Свое повествованье так ведет:
И превратил круговорот времен
Меджнуна имя в притчу для племен.
Владыкам сильным, людям слабым всем,
Известным сделалось арабам всем.
И некто благосклонный, злобы враг,
О нем отцу Лейли поведал так:
«Был Кайс несчастный в племени Амир,
Его способностям дивился мир.
Разумен был он, сдержан был весьма,
Но, кажется, теперь сошел с ума.
Чуждается людей отныне он,
Блуждает и вопит в пустыне он.
Жалеют люди: «Бедный человек,
Любовь свершила на него набег!
Он словно грозной бурею влеком:
Любовью к некой гурии влеком».
Отец Лейли растроган был до слез.
Он руку укусил и произнес: [80]
«Ах, бедного хвалили столько раз,
Его дурной, наверно, сглазил глаз.
Ах, светлая погибла голова,
Ум совершенный, дивные слова!
Язык сладчайший всем понятен был,
Он и моей душе приятен был.
О, каковы страдания отца
И матери! Разбиты их сердца!
Каким огнем он мучим и палим?
Душа объята пламенем каким?
Какая роза в нем любовь зажгла?
Какое племя для него кыбла?» [81]
И некто молвил: «О дающий свет!
Раз ты спросил, позволь держать ответ:
В степи широкой множество племен, —
Ни к одному из них не склонен он.
Его любовь плоха иль хороша,
Но в племени твоем — его душа,
Но в племени твоем — весь мир его,
Но в племени твоем — кумир его!
В гареме целомудрия — душа.
Лишь ветром целомудрия дыша,
Она прекрасна, как весенний ток.
Основа этой ткани и уток —
Учтивый, скромный нрав… Но пробил миг,
И вздох страдальца в сердце ей проник…
В его очах — забвение всего.
В его речах — свержение всего.
Ты знаешь сам: он мастерства достиг,
Отмечен высшим даром плавный стих,
Но в каждой строчке — имя лишь одно,
Не будет упомянуто оно.
Сказал я. Сам теперь ты все поймешь
И разум свой в советники возьмешь».
И слушавший лишился вдруг себя.
Как нитка, закрутился вкруг себя,
Сначала даже слова не сказал,
Ни доброго, ни злого не сказал,
В ушах его стоял немолчный шум!
Потом очнулся, успокоил ум
И молвил так: «Ступай, вкушая мир.
Скажи владыке племени Амир:
«Такие речи недостойны нас,
Я перед ними слух замкнул сейчас.
Пусть говорит народная молва,
Но ты гони подобные слова.
Давно сыновний видел ты недуг,
Ты должен был смирить строптивый дух.
Знай, заслужил безумец одного:
Цепь, только цепь — лекарство для него!
Иль ты забыл могущество мое,
И каково имущество мое,
И как мое значенье велико?
С тобой и сыном справлюсь я легко!
Или тебе неведом больше страх?
Я раздавлю, я превращу вас в прах!
Запри Меджнуна, если он упрям!
Не подпускай его к моим шатрам!
Настойчив будет он в своих делах, —
Тогда судьею станет нам аллах,
Его тогда о милости моли:
Я твой народ смету с лица земли!»
Отправил с этим словом он посла:
Война свой пламенный язык зажгла.
Пришел посланец, долг исполнив свой…
Поник родитель Кайса головой,
Когда он смысл речей уразумел.
Спасенья нет! Смириться он сумел,
Согласье дал. Простился с ним посол…
А весь народ в смятение пришел,
Меджнуна люди бросились искать
И плачущим нашли в степи опять,
Как будто был покойник у него
Или напал разбойник на него!
Безумца притащили в отчий дом,
Надели цепи на него потом…