«Метаморфозы» и другие сочинения
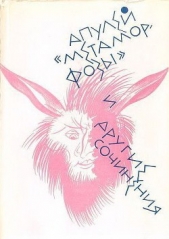
«Метаморфозы» и другие сочинения читать книгу онлайн
Том «Библиотеки античной литературы» представляет нам творчество знаменитого римского писателя II в. н. э. Апулея. Апулей является автором самого популярного романа древности «Метаморфозы, или Золотой осел». В томе представлены также сочинения Апулея риторического и философского характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
потому что теперь, не спорю, радость моя препятствует красноречию, удовольствие мешает размышлению и ум, полный сознанием торжества, предпочитает вкушать его в настоящем, нежели предрекать в будущем. Что поделать? Я хочу выразить благодарность всем своим видом, но от радости не могу пока излить в словах. И пусть никто, повторяю, никто из тех, норовящих все омрачить, не указывает мне, будто я и заслужить не мог, и понять не могу, почему я так окрылен одобрением прославленнейшего и просвещеннейшего мужа? Еще бы — расположением столь же блистательнейшим, сколь благосклоннейшим, какое объявлял мне пред карфагенской курией муж консулярского звания! Что он меня знает — уже это высочайшая для меня честь; но мало того, он даже с похвалою говорит обо мне перед первыми мужами Африки! Действительно, как я узнал, третьего дня он отправил послание, в котором запрашивал для моей статуи место наиболее оживленное и ссылался прежде всего на права дружбы между нами, достойно начавшейся еще с тех пор, как мы были соратниками в учении у одних и тех же наставников; а далее упоминает о добром участии, которое я проявлял при каждом шаге на пути его славы. Итак, первое его благодеяние — что он назвался моим соучеником; а второе благодеяние — что он с высоты своего величия предает огласке мою любовь к нему как бы на равных. Не упустил он и то, что в других городах и областях мне уже возводились статуи и воздавались иные почести. Что еще можно добавить к волеизъявлению консуляра? А он добавляет еще такой довод, что я имею жреческий сан, высоко почитаемый в Карфагене! Но самое главное благодеяние, далеко возносящееся над всеми прочими, следующее: он, свидетель чрезвычайно состоятельный, внося это предложение обо мне, обещает воздвигнуть мне эту статую в Карфагене за свой счет, — он, муж, которому все разноплеменные провинции повсюду считают за честь посвящать повозки четверней и шестерней! 489
Итак, что же осталось до вершины моей славы, до водружения колонны в мою честь? Чего еще нужно? Эмилиан Страбон, консуляр, а вскоре, к нашей общей радости, проконсул, высказал в карфагенской курии пожелание о почестях мне — и к его голосу все прислушались. Разве не равносильно это сенатскому постановлению? Мало того: все карфагеняне, кто присутствовали в той священнейшей курии, так любезно определили место для статуи с намерением (как я надеюсь) продолжить на следующем заседании разговор уже по поводу другой статуи, чтобы при вящем уважении, вящем расположении к своему консуляру быть его почину не соперниками, а продолжателями, то есть чтобы благодеяние, которое осенит меня в этот день, исходило от всех граждан. К тому же наилучшие ваши должностные лица и благодетельнейшие правители всегда помнили, что это поручение совпадает с их собственной — вашей — волей. И я, коль уж знаю об этом, осекусь сказать об этом вслух? Неблагодарным бы я оказался! Тем большую благодарность, на какую я только способен, выражаю я и питаю ко всему вашему собранию за чрезвычайную щедрость, мной не заслуженную, за почетнейшие рукоплескания, которыми наградили меня в вашей курии — в той курии, где быть просто названным по имени — уже высочайшая честь.
Итак, самого тяжкого, самого труднодостижимого — любви народа, уважения сената, одобрения властей и первых граждан — этого, так или иначе (не сглазить бы), я достиг. Что же еще нужно для почетной статуи? Только расходы на бронзу и труд ваятеля. А в этом для меня не было отказу даже в менее крупных городах, не то что в Карфагене, где блистательнейший сенат дела куда поважнее обычно решает разом, а не мелочится в расчетах. Но об этом речь моя тем убедительнее, чем будете вы распорядительнее. Да и как мне с еще большей полнотой благодарных чувств не воспеть вас, благороднейшие сенаторы, славнейшие граждане, достойнейшие друзья, — в книге моей, завершение которой я намерен приурочить к освящению моей статуи! И пусть эта книга пройдет по всем провинциям и да возгласит она отсюда целому свету и целой вечности хвалу за ваше благодеяние во все века и во всех народах!
17. 490 Оставим тех, кто любит мешать собою досугам правителей: пусть они в недержании языка видят способ блеснуть умом, пусть они тщеславятся видимостью вашей вожделенной дружбы. И то и другое, Сципион Орфит, мне совершенно чуждо. Хоть и скромно мое дарование, но по прежнему своему успеху оно достаточно известно людям, чтобы не требовать новых доказательств; а что до милостей у тебя и таких, как ты, то я предпочитаю пользоваться, а не хвалиться ими, быть желателем их, а не хвастуном, потому что желать можно только искренне, а хвалиться можно и лживо. К тому же я с младых моих лет всегда прилежно занимался благородными науками и снискал доброе мнение о нравах и занятиях моих не только в нашей провинции, но и в Риме среди твоих друзей, чему ты сам наилучший свидетель, — так что моя для вас дружба может быть не менее желанной, чем ваша для меня долгожданной. А ведь извиняться за редкие посещения — это значит притязать на постоянное присутствие, потому что первейший знак любви — это радоваться частым посещениям, сердиться на всякое уклонение, настойчивых привечать, о ленивых скучать, потому что заведомо присутствие мило того, с кем разлука томила.
Однако голос, сжатый постоянным молчанием, столь же мало человеку полезен, сколько нос, забитый насморком, уши, заросшие серой, глаза, затянутые бельмом. Что пользы от рук, вкрученных в наручники, от ног, вколоченных в колодки, что пользы от духа, телоправителя нашего, ежели он сном оглушен, или вином отягчен, или хворью удручен? Как меч в деле блещет, а в ножнах ржавеет, так голос, спрятанный в молчание, от долгой спячки тупеет. Во всем отвычка рождает леность, а леность рождает вялость. Если трагик не декламирует ежедневно, звонкость голосовых связок его слабеет, и ему нужно криком прочищать хрипоту. Более того: даже упражнения голоса оказываются тщетным трудом, ибо другие звуки легко его перекрывают: ведь и труба своим гудом гуще, и лира ладом богаче, и флейта жалостнее в плаче, и свирель воркованием слаще, и рог звучанием дальше, нежели голос человеческий. Не говорю уже о звуках, издаваемых животными, бездумных, но по-своему восхитительных, как тяжкое мычанье быков, пронзительный вой волков, мрачное гуденье слонов, веселое ржанье скакунов; а птичьи яркие клики, а львиные дикие рыки, а прочие голоса животных, то грубые, то плавные, вызываемые то угрозой нападения, то блаженством наслаждения?
По сравнению с ними со всеми человеческий голос куда беднее, но это дар божий, в котором больше пользы для ума, чем услады для слуха. Тем более надлежит им пользоваться и тем чаще давать ему звучать, но лишь в таком вот собрании, при таком вот председателе, среди такого блистательного стечения стольких мужей ученых, стольких мужей благосклонных. Да если бы главным искусством моим было струнное, я и тогда искал бы многолюдства. Да, в одиночестве
но ведь это, если верить сказкам, лишь потому, что Орфей томился изгнанием, и Арион был сброшен в море злодеянием, первому пришлось сделаться диких зверей укротителем, а второму — жалостливых чудищ усладителем, — и оба были несчастны, потому что пели не по охоте и не ради хвалы, а по необходимости и ради спасения жизни. Я куда больше восхищался бы ими, если бы они угождали слуху не зверей, а людей. Места потаенные более подобают птицам — дроздам, соловьям, лебедям: дрозды в дальней глуши щебечут песенки детства, соловьи в тайном уединении выводят напевы юности, лебеди в заповедных заводях слагают песнопения старости. 493 Но кто хочет угодить песнею и отрокам, и юношам, и старцам, тот пусть поет ее среди тысячного народа!


























