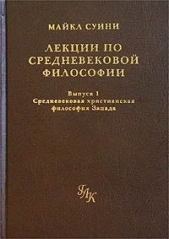Русская средневековая эстетика XI-XVII века

Русская средневековая эстетика XI-XVII века читать книгу онлайн
Монография В. В. Бычкова—первое в отечественной и зарубежной науке систематическое исследование становления и развития духовной и эстетической культуры на Руси. К изданию книги привлечен редкий и богатый иллюстративный материал по истории художественной культуры Средневековья. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Виктор Васильевич Бычков (род. в 1942 г.), доктор философских наук, руководитель научно–исследовательской группы "Неклассическая эстетика" Института философии Российской Академии наук, член Союза художников России, автор более 140 научных работ — 60 из которых опубликовано за рубежом —по раннехристианской, византийской, древнерусской культурологии, эстетике, искусствознанию. Основные работы: Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977 (итал. изд. — 1983; болт. — 1984; венг. — 1988; серб., дрполн. — 1991); Эстетика поздней античности. II — III века (Раннехристианская эстетика). М., 1981 (рум. изд. — 1984); Эстетика Аврелия Августина. М., 1984; Эстетическое сознание Древней Руси. М., 1988; Эстетика в России XVII века. М., 1989; Эстетический лик бытия (Умозрения Павла Флоренского). М., 1990; Смысл искусства в византийской культуре. М., 1991 (с библиографией работ автора); Малая история византийской эстетики. Киев. 1991 (с библиографией работ автора).
В настоящее время В. В. Бычков продолжает работу над "Историей православной эстетики".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Более характерным для эстетического сознания русичей и в XVI в. остается общий пафос возвеличивания слова (особенно книжного) как выразителя мудрости, разума, духовности, то есть развитие идей софийности словесного искусства. Интересные мысли на эту тему мы находим в трактате «О святой Троице» известного писателя и мыслителя середины XVI в. Ермолая–Еразма [329]. Слово является выражением и воплощением ума, и без него ум как бы и не существует, не может проявиться, как солнце осталось бы невидимым без его света, (сияния. «Аще бо и у человека не изыдет от уст слово, то и ум не изъявится: уму бо сияние есть слово; аще же ум без слова, кто его светь [ведает]» (Ер. 67). Отсюда пристальное внимание самого Еразма к слову, к словесному выражению, к книге как носителю мудрости. Оно одуховорено и традиционной для христианства параллелью человеческого слова со Словом божественным, Сыном, который также есть «сияние Отчее»; а ум, слово и душа в человеке выступают, по Ермолаю, который активно опирается в своем трактате на византийских авторов, устойчивым образом троичности божества. Книгам, полагает он, «достоит веровати», ибо они написаны наитием Святого Духа и наставляют людей на «добродетельное житие» (61). Поэтому настоящим «книгочием» может быть назван не тот, кто только скользит взглядом по поверхности слов, а прежде всего тот, кто читает умом, осмысливая глубинный смысл прочитанного. «Несть се книгочий, —пишет он, —не единым бо очным зрением или языка соглаголанием книгочий, но пространьством ума, еже мысльми разумными сведети глубины» (85). Ермолай–Еразм, пожалуй, наиболее точно и ясно среди русских книжников сумел выразить средневековое понимание самого акта чтения как некоего почти сакрального проникновения всем «пространством ума» в бесконечные духовные глубины словесного текста, созданного усилиями отнюдь не только человеческого разума. Отсюда и дерзкая попытка русского книжника выразить словами (хотя и «в притче») умонепостигаемую идею троичности Бога. Страх и ужас охватывают его от этого замысла: «…душею содрогну и телом утерпаю, страх бо мног и лют объят мя, трепетну душу и ужасно сердце сотворыпе, прежасает бо ся ум, не могуще смети вместити слова о пребезначальнем свете» (2—3). И тем не менее Ермолай, уповая на божественную помощь, берется за это почти невыполнимое дело. Столь великими виделись ему сила и могущество книжного слова. Эти представления о высокой значимости слова русичи использовали не только в прямом смысле—для возвышения самой словесности, но и в качестве своеобразного приема оценки других феноменов. В частности, понятие невыразимости в слове служит им для эстетической оценки тех или иных явлений. Тот же Ермолай–Еразм, стремясь подчеркнуть красоту и совершенство человеческого тела, утверждает, что он останавливается перед ним в изумлении, не зная, где обрести необходимые слова для адекватного описания этого творения божественной премудрости. «Како же убо азъ грубый сия добромыслене могу уразумев, и другим явити, понеже къ Божия премудрости творению пришед, и обретохся яко бы низъший поселянин къ царским пришед полатам, и стоя зряй изуметелне, такоже и азъ изумлеваюся, откуду убо начну», — говорит Ермолай–Еразм (65).
Человеческое тело столь высоко почитается Еразмом не только как произведение божественного Творца, но и за то, что в нем русский книжник усматривает достаточно произвольно множество «троек» (трехчастные структуры) и все их толкует как образы троичности Бога. Отсюда и само понятие образа привлекает его внимание. Сущность человека как образа Бога Ермолай усматривает в троичности ума, духа и слова, а отличие образа от оригинала видит в отсутствии у образа мощи и силы прототипа (3). Много внимания уделяет он и живописным образам в связи с борьбой против иконоборцев, в обилии появившихся в это время на Руси под влиянием протестантизма («люторская ересь»). Ермолай–Еразм излагает легендарную историю начала иконописания и иконопочитания, пересказывает известные легенды о чудотворных иконах, перелагает доводы византийских иконопочитателей. Ничего принципиально нового к известным византийско–русским учениям об иконах он практически не добавляет, хотя сам факт обращения к теории иконы в середине XVI в., когда средневековая иконопись приближалась к закату, важен для характеристики эстетического сознания того времени.
Так же твердо на позициях иконопочитания стоял и Максим Грек. Продолжая византийские традиции, он указывает на целый ряд функций, которые выполняет изображение в средневековой культуре, и значимость этих функций, по его мнению, сама доказывает необходимость религиозных изображений. Хорошо зная своеобразие древнерусской религиозности и эстетического сознания, Максим из многих известных ему по византийским источникам функций иконы выдвигает на первое место эстетическую, которая у византийцев была не столь выделена: икона доставляет духовное наслаждение зрителю. «И егда возрим, —пишет он, —на написанный образ Христова подобия, тогда радости духовныя наполнимся» (Макс. I, 489). В этом усматривает он, пожалуй, главное значение иконы для его современнйков. Кроме этой функции он указывает еще на коммеморативную (икона напоминает о прошедших событиях, «возобновляет» в сердцах верующих мудрое учение ангелов и т. п.), сакральную (икона причастна тому, что на ней изображено) и сотериологическую. Интересно, что о последней функции византийские отцы–иконопочитатели впрямую не писали, полагая ее, видимо, небесспорной. Максим же совершенно определенно заявляет, что «Господь и Бог наш видимых ради святых икон и прочих божественных вещей мысленно спасение сотвори» (491). Тем самым роль и авторитет изображений в древнерусской культуре становятся еще более высокими, чем в Византии, о чем, собственно, наглядно свидетельствует и вся древнерусская художественная практика. Такой популярностью, как на Руси, икона не пользовалась ни в Византии, ни в одной из стран православного региона.
Не последнее место в характеристике эстетического сознания первой половины XVI в. занимают символические толкования Максима Грека. Будучи типичным представителем средневекового символизма и человеком большой эрудиции, он за каждым предметом усматривал скрытый смысл (часто не один) и разъяснял его в своих «Словах» и посланиях. Средневековая символика, составлявшая один из главных языков средневековой культуры и средневекового искусства, во многом уже забыта. Поэтому любые объяснения символических значений, данные самими средневековыми людьми, играют важную роль в понимании языков их культуры и искусства. Здесь не место заниматься подробным анализом всех символических толкований Максима, тем более что многие из них традиционные и заимствованы им из византийских источников типа «Словаря» Свиды или экзегетических сочинений. Укажу для примера лишь на некоторые из них, чтобы дополнить представление о знаково–символическом аспекте древнерусского эстетического сознания. Максим дает для этого наиболее богатый материал.
Непосредственно из Свиды он переводит следующие толкования.
Сапог—символ плоти, тела и соответственно означает «вочеловечивание» Христово; он же, однако, означает и «плотское мудрование своея воли».
Крылья голубиные посеребренные— «дарование Святого Духа».
Сион означает небесный Иерусалим и «благочестивое жительство».
Рог—сила, крепость; «рог праведнаго» — «благочестивое мудрование» [330].
Черные одеяния Максим толкует как «изображение» плача и умерщвления: «плача бо… имертваго жития указ есть внешнее сие черное рубище» (2, 148—149).
Напротив, золотые одежды Богоматери [331] означают чистоту и божественные добродетели: «Рясны же златыя сродныя чистоте боготворных добродетелей» (1, 499).
Неопалимая купина в видении Моисея— символ Богоматери. Сама купина (куст) означает «человеческаго естества немощь» (504), сучья—разнообразные грехи человеческие. Огонь, которым горела купина, символизирует божество сына, которое, соединившись с человеческой природой, не спалило (не повредило) ее (504—505). В древнерусской живописи XVI в. была широко распространена сложная символическая композиция «Богоматерь Неопалимая купина».