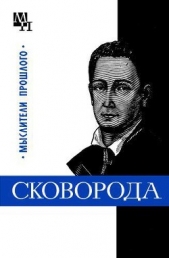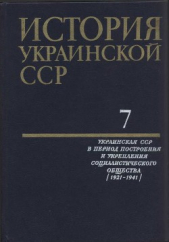Сочинения в двух томах

Сочинения в двух томах читать книгу онлайн
Первый том включает произведения Г. Сковороды, написанные в 1750—1775 гг. Порядок размещения щюизведений позволяет проследить эволюцию философских взглядов Г. С. Сковороды. Том открывается сборником стихов «Сад божественных песен». Из «Сада» выбраны песни, представляющие ценность в философском отношении. «Басни Харьковские» и последующие произведения, среди которых и два недавно найденных— «Беседа 1–я» и «Беседа 2–я», характеризуют мыслителя как философа, поставившего в центре своей системы этико–гуманиотическую концепцию. Том завершает «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира».
В состав второго тома вошли философские сочинения Г.Сковороды, созданные им в 70-90-х годах XVIII в.: трактаты «Икона Алкивиадская» и «Жена Лотова», диалоги «Брань архистратига Михаила со Сатаною», «Пря беса со Варсавою» и «Потоп змиин» и две притчи - «Благодарный Еродий» и «Убогий Жаворонок». Помимо этого в том включены эпистолярное наследие философа, составляющее более ста двадцати писем, его филологические исследования и переводы. Заключается том биографией Сковороды, написанной его другом и учеником М. Ковалинским, которая представляет собой один из важнейших источников изучения философии и творчества Г.Сковороды.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Афанасий. Вот разъехался с баснями! Все твое доказательство на пустых небылицах [262].
Григорий. Евангелие разве не притчами учит? Забыл ты храмину, дураком основанную на песке? Пусть учит без притчей тот, кто пишет без красок! Знаешь, что скоропись без красок, а живопись пишет красками. Но в обоих, как в мойсейской купине [263], действует тот же язык огненный, если только мы сами не лишены оного языка: «Начали говорить странными языками». Пускай, например, книжник, сиречь муж ученый, напишет сентенцию сию: «Бес скуки мучит душу».
Без сомнения, сердце его отрыгнуло, а трость его написала слово благое. Но чем лучше трость книжника- скорописца от кисти книжника–живописца, если он невидимое скучных мыслей волнование изобразил утопающим человеком? Он с Иеремиею через человека изобразил душу: «Глубоко сердце человеку и человек есть», а с Исаиею, через потоп, изъяснил мучительное сердце обу- ревания — «Взволнуются нечестивые». Таковая приточная [264] речь, ничем не хуже от оной, так сказать, бескрасочной речи, например: «Душа пх в злом таяла». Однако и сия самая пахнет притчею тающего от воздушной теплоты льда. Так, как и cue книги Иовской слово: «Река текущая основание их» — дышет сказкою о построенной храминке на льду.
Афанасий. Как вьюн вьется, трудно схватить.
Григорий. Вот, например, бескрасочное слово — «Все погибнут». Но сколь красно сие ж самое выразил Исайя: «Всяка плоть — сено». Сноп травы есть то пригожий образ всей гибели. Сам Исайя, без фигуры, сказал следующее: «Дать плачущим веселие». Но сколь благообразно и краснописно то же он же: «Вскочит хромой, как олень». «Восстанут мертвые». Труп лежащий есть образ души, в унылую отчаянность поверженный. Тогда она, как стерво, лежит дол в плачевной стуже и скрежете, лишенная животворящего теплоты духа и жизненной проворности. Будто змий, лютым морозом одебелевший там, где Кавказская гора стеною своею застеняет ему спасительный солнечный свет. Сия одебелелость находит тогда, когда в яблоне корень и мозг, называемый сердечко, а во внутренних душевных тайностях тлеет и увядает то, от чего все прочее, как дверь, зависит от петли. Прозрел сию гнездящуюся язву прозревший Иеремия: «В тайне восплачется душа ваша». Сих движущихся мертвецов изобразил Осия змиями: «Полижут прах, как змии, ползущие по земле». А Павел из праха возбуждает, как пьяных: «Восстань, спящий…»
Афанасий. Куда тебя занес дух бурен? Ты заехал в невеселую страну и в царство, где живут «как язвенные, спящие в гробах».
Григорий. А как душевная унылость (можно сказать: ной и гной) образуется поверженным стервом, так сего же болвана оживлением и восстанием на ноги живо- пишется сердечное веселие: «Воскреснут мертвые». Взгляни на встающего перед Петром Енея! [265] Он ходит и скачет, как олень и как товида, сиречь серна или сагайдак: «Встанут сущие во гробах». Знай же, что он сие говорит о веселии, и слушай: «Все земнородные возрадуются». Не забывай, Афанасий, сей сираховской песенки: «Веселие сердца — жизнь человеку».
Афанасий. Я се каждый день пою. Я веселие весьма очень люблю. Я тогда только и радостен, когда весел. Люблю пророков, если они одно веселие нам поют. Не их ли речи нареченные у древних музами [266]?
Григорий. Так точно. Их пение есть то вещание веселия. И сие‑то значит по–эллински eooqpfeXiov, а затыкающий от сих певцов уши свои нарецался «Ajxoftoi [267] сиречь буйный, безвкусный дурень, по–еврейски Навал, по–римски Fatuus… Противный же сему — Еосро [268], или Philosophus. А пророк — профитие, сиречь просвещатель, или звался Tzoirr сиречь творец.
Афанасий. Ба! Ба! Ты мне божиих пророков поделал пиитами.
Григорий. Я об орлах, а ты о совах. Не напоминай мне обезьян и не удивляйся, что сатана образ и имя светлого ангела на себя крадет. Самое имя (Novutus) что значит? Один только пророческий дух провидит.
Афанасий. Правда, что ьсяк художник творец, и видно, что сие имя закрытое. Одно только мне не мило в пророках: что их речи для меня суть неровные, развращенные, завитые, странные, прямее сказать — крутогористые, околесные, запутанные, необыкновенные, кратко сказать — бабья басня, хлопотный сумасброд, младенческая небыль. Кто может, например, разрешить сие: «И где труп, там соберутся орлы»? Если ж оно простое — кто премудрый не заткнет ноздрей от смрада стерва сего? Фи- вейская уродливая Сфпнга [269] мучила древле египтян, а ныне вешает на страсть души наши иерусалимская красавица Мариам [270]. Вселенная, побуждаемая острпем Иеф- таевых пик [271], бесится от болезни и, ярясь, вопиет: «Доколь вознесешь души наши?»
Григорий. Нетопырь вопрошал птенцов: — Для чего вы не любите летать ночью? — А ты для чего не любишь днем? — спросили горлицын и голубев. — Мне мешает причина достаточная, — отвечает темная птица, — мое око не родилось терпеть света. — А наше око — тьмы, — улыбнувшись, сказали чистые птицы [272].
Афанасий. Замолк? Сказывай далее.
Григорий. Иностранцы вошли в дом Соломонов. Услаждались, взирая на бесчисленные образы бесценного богатства. Слепой из них, ощупывая фигуру золотого льва, уязвил острейшими его зубами сам свою руку. Гости, выйдя из дому, воскликнули: «Сколь возлюбленный дом и горницы твои, сын Давидов! Сам господь сотворил оные». «А я вышел из чертогов уязвленным», — вскричал слепой. «Мы видели, как ты то жезлом, то руками щупал», — сказали зрячие. Осязать и касаться есть язва и смерть, а взирать и понять есть сладость и неизреченное чудо.
Афанасий. Опять ты возвратился на своп балясы?
Григорий. Прости мне, друг мой, люблю притчи.
Афанасий. К чему ж ты приточил притчи твои? Ведь притча есть баляс, баснь, пустошь.
Григорий. Слышал ты пророческих речей фигуры? Фигура, образ, притча, баляс есть то же. Но сии балясы суть то же, что зеркало. Весь дом Соломонов, вся Библия наполнена ими.
Афанасий. Если так, напрасно защищаешь красавицу твою Библию, нечего на нее зевать.
Григорий. Для чего ж ты зеваешь в зеркало?
Афанасий. К чему же зевать на Библию, когда в ней голые балясы? А зеркало — дело иное.
Григорий. Как иное, если оно есть та же пустошь. Разве тебе не довелось быть в хрустальных фабриках? Оно есть пепел.
Афанасий. Пепел, но прозрачный. Он меня веселит. Я в нем вижу самого себя. А всяк сам себе милее всего,.
Григорий. О плененный твоим болвапом, Нарцисс! Мило тебе в источник и в прозрачный пепел зевать на гибельный твой кумир, а несносно смотреть в освященные библейные воды, дабы узреть в богосозданных сих пророческих зеркалах радость и веселие и услышать преслав- ной сладости благовестив: «Днесь спасение дому сему было». Повернись направо, слепец, выгляни из беседки на небеса, скажи мне, что видишь?
Афанасий. Я ничего не вижу. Облака вижу, а облако есть то морской пар и ничто.
Григорий. О нетопырь, взгляни с приметою! Будь твое око орлиное и голубиное! Да выколет твое вечернее око ворон соломоновский!
Афанасий. А! А! Вот она красавица! В восточном облаке радуга! Вижу ее! «Сколь прекрасна сиянием своим»!
Григорий. Ныне ж скажи мне, что видишь? Конечно, в пустом не пустошь же видишь.
Афанасий. Радугу вижу, а чем она и что такое она есть — город или село, по пословице: не знаю, бог весть. Знаю, что сей лук благокруглый, облачный, испещренный называют дугою, раем, райком, радостною дугою и радугою.
Григорий. В индийских горах путешествовали европейцы [273]. Нашли кожаный мех с хлебами и такой же сосуд с вином. Потом, придя к пропасти, усмотрели по другую сторону что‑то черное, лежащее на дороге. «Авось еще бог даст хлеб, — вскричал один, — я вижу ме- шище». «Провались такой мешище, — спорил другой, — я боюсь, то зверище». «Какой зверище? Клянусь вам, то обгорелый пнище!» Четвертый сказал: «То город». Пятый вопил: «То село»… Так‑то и ты видишь, а что такое оно, не знаешь.