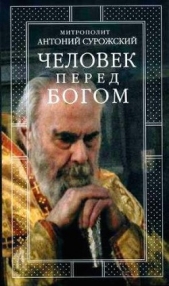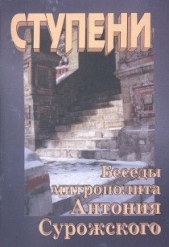О встрече
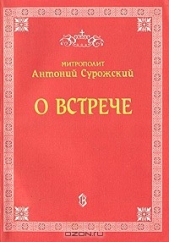
О встрече читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так значит, возможно спасение без Христа?
Я бы сказал — да; возьмите слова апостола Павла о том, что язычники руководствуются законом Божиим, написанным в их сердцах, что иудеи руководствуются законом Божиим, данным Моисеем, христиане — законом Христовым идут (Рим. 2, 14 и след.).
Но они должны подойти ко Христу?
Они могут и не подойти, потому что это — историческая возможность. Вы не можете ставить под вопрос вечное спасение человека только на том основании, что он родился в Центральной Африке в эпоху, когда там не было ни одного миссионера; тогда действительно спасение определялось бы географией и историей. Англия — остров; там не видели ни одного православного до времени, скажем, Иоанна Грозного. Так что же, англичане должны погибать, вечное им осуждение, потому что они там родились? Это было бы слишком просто! Другое дело, если перед вами станет Истина, и вы пройдете мимо; но и тут есть слово Христово: всякая хула на Сына Человеческого простится (Мф. 12, 31–32). Значит, можно пройти мимо чего-то и не осудиться вконец.
Я вам дам личный пример. (В Англии считается неприличным о себе говорить, но мы — русские, так что ничего). Я в первый раз прочел Евангелие, когда мне было пятнадцать лет, от негодования о том, что я услышал о христианстве, чтобы удостовериться, так ли это, и если это так — покончить раз и навсегда с Богом, с христианством и со всем… Вот что получается: тот, кто при мне говорил о Христе, возбудил во мне такое отвращение, такое омерзение и негодование; а кончилось всё тем, что я прочел Евангелие, и это меня перевернуло. Но этого могло бы и не случиться; я мог бы, например, всё это выслушать, прийти в омерзение и ярость (как я и пришел), вернуться домой и увидеть, что у нас в доме нет Евангелия, и что ни у кого из знакомых нет, и сказать: ну, значит, так оно и есть, — и определить себя вполне твердо: потому что я тогда определил себя очень даже крепко. Так что всё это очень сложно. Знаю, что я сейчас поднимаю вопросы трудные. Вопрос нахождения Христа и спасения во Христе я вижу так: иначе как во Христе, спастись нельзя, — это одно; но если вы не могли даже и слыхать о Христе, то вы этим не можете осудиться. Иначе это предопределение худшее, чем у кальвинистов, чем в реформатстве, тогда это был бы просто Божий произвол: ты родился там, ты и осужден поэтому. Тут никакой нравственной коннотации нет, ничего нравственного нет, есть только или случайность, или злая воля Божия, но не иначе: чем же ты виноват, что родился тут, там или еще где-то?
Значит, можно думать, что есть оглашенные в других религиях?
Мне приходится видеть очень много народа — православных и неправославных, верующих и неверующих. И одно время мне много приходилось работать с восточниками (три года, так что, в общем, достаточно). И поразительно, какая мера знания Бога может быть у человека, когда он доходит до какого-то края, и не хватает лишь имени Иисус, чтобы всему дать ключ и объяснение. Но можно ли себе представить, что когда человек, который опытом жизни хотя бы, при помощи своей даже языческой веры, дошел до такого знания, предстанет перед лицом Господним, он не узнает: “вот, Кого я всю жизнь искал, вот ответ на все мои недоумения”?
Мне вспоминается слово святого Исаака Сирина: не называй Бога справедливым; если бы Он был справедлив, ты был бы уже в аду… В этом большая надежда. Будь Он просто справедлив, как хороший судья, какая была бы надежда? Вся надежда на Божию несправедливость, которая высказана в притче о работниках последнего часа: почему Я не могу дать, если у Меня сердце широко? (Мф. 20, 15). Другое дело, способен ли ты принять: бывает, человек тебя любит, а ты не в состоянии ответить любовью. Но у того же Исаака Сирина есть замечательное место, где он указывает, что когда человек умирает, тело от души разлучается, и душа оказывается лицом к лицу с Богом, и видит, что единственное содержание жизни есть любовь, то всё, что в нем есть, вся любовь, которая в человеке где-то есть, вся тоска по любви, которая в нем есть, вся устремленность к полноте бытия, к настоящему бытию, которая в нем есть, делается для него как бы мучением деторождения: вот рвется всё это, и не может родиться. И тут Исаак Сирин приводит интересную мысль, что душа не может услышать окончательного решения о себе, пока не воссоединится с телом, потому что тело — ее друг, с которым она совещалась, творила добро и творила зло, и только вместе они могут принести этот плод.
Но опять-таки, это не такая слепая безнадежность, как нам часто представляется: умер, и теперь кончено всё. Тогда о чем мы молимся: Со святыми упокой…, панихиды и прочее? Мы не можем молиться о том, чтобы Бог, Который рассудил правильно, по нашей просьбе поступил бы неправильно; это не христианство было бы. Тут есть что-то иное: действительно в это время что-то происходит, и каждая капля любви, которая спала бы через нашу молитву, что-то может менять в Царстве Любви, потому что эта любовь принадлежит тому, кого ты любишь. И когда эта любовь тебе дорого стоит, тогда действительно думаешь: да, пожалуй это может помочь…
Я сейчас вспоминаю одного своего знакомого, значительно старше меня. Он попал в немецкий концентрационный лагерь и четыре года провел в Бухенвальде. Когда он вернулся, я его спросил, встретив на улице: “Федор Тимофеевич, ну как вы? — И он мне ответил — Я потерял покой. — Федор Тимофеевич, вы потеряли веру? — Нет, я потерял покой, потому что я день и ночь думаю об этих несчастных людях, которые были настолько безумны, что так нас мучили и пытали. Они-то не знают, что в какой-то день станут перед Божиим судом, а я знаю. Когда я был в лагере, был их жертвой, я чувствовал: я могу о них молиться, потому что Бог не может не слышать мои молитвы. А теперь, когда они меня больше не мучают, у меня чувство, что молитва моя не оправдана, она слишком легковесная.” Вот где мы теснейше переплетаемся, где жертва, страдая, получает Христову власть сказать: Прости им. Отче, не ведят бо, что творят; прости!..Другой страдалец сказал своему ученику перед смертью, что только мученик сможет в день Страшного суда стать перед Судьей защитником своих мучителей и сказать: по Твоему примеру и слову я простил; Тебе больше нечего взыскивать с них…
Вот тут судьбы переплетаются; тут всё переплетается, тут-то и чувствуется, что Тело Христово — не только та святыня, но и та трагедия, о которой я говорил. Человек, который тебя пытает, не вошел в Тело Христово, но без него Тело Христово не будет сиять полнотой…
Расскажите, Владыко, о своем прошлом. Вы уже затронули…
Знаете, о себе говорить всегда неудобно и нелепо; я об этом никогда не говорил до момента, когда два года тому назад устроили в Лондоне публичное собеседование между безбожниками и верующими. Меня пригласили быть одним из тех, кто говорил за веру; беседа была приблизительно двухчасовая; не только участники этой беседы имели право в ней быть действующими лицами, но любой человек, который находился в зале, имел право поставить кому угодно из нас вопрос. В течение довольно долгого времени обсуждение шло об истинах веры, о достоверности того и другого, до момента, когда встал один человек и сказал: “Я ставлю владыке Антонию вопрос: на каком основании он верует?” — и сел. И вот тут я почувствовал, что не имею права защищать свою душу, особенно потому, что это мог быть вопрос не только любопытства, и не только вызов, а вопрос души душе. И тогда я впервые рассказал то, что я вам сейчас скажу. Но, конечно, такого рода рассказ может для вас ничего не значить.
Я никогда не встречался, можно сказать, ни с Церковью, ни с Евангелием лет до пятнадцати. Я родился в православной семье, был крещен православным, но Церкви не знал; это было связано с революцией, с постоянными передвижениями с места на место, с очень бедственным материальным состоянием, с тем, что я был во французской школе-интернате, где никакого рода религиозного преподавания не происходило; и с тем также, что у меня не было никакой тяги к Богу. Я обнаружил замечательный прием, чтобы никогда не бывать в храме: меня водили туда в Великую пятницу, и я обнаружил сразу, что если я вдохну ладана и задержу дыхание, я падаю в обморок, и меня немедленно выводят. И я этим пользовался в течение нескольких лет, когда водили, а потом и водить надоело. Что касается Самого Бога, мне дела до Него не было, а чувство было скорее враждебное, потому что порой, в разные минуты, Он усложнял жизнь. Был момент, когда эмигрантским детям предлагали места в католических школах при условии, что мы примем католичество, и это меня отшатнуло не только от католиков, но и от их Бога.