Богословские труды
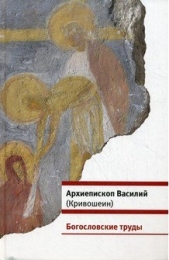
Богословские труды читать книгу онлайн
Книга объединяет в себе статьи выдающегося богослова и патролога XX в. архиепископа Русской Православной Церкви в Бельгии Василия (Кривошеина) (1900—1985). К числу особенностей издания относятся комментарии библиографического и содержательного характера, позволяющие читателю лучше понять историю богословских проблем, которым посвящены публикуемые статьи, содержание используемых терминов и понятий, а также церковно–исторический контекст создания этих произведений.
Уникальность книги обусловлена также и тем, что в ней впервые публикуются историко–биографические очерки жизни владыки Василия. В очерках впервые представлены уникальные материалы из его личного архива, сохранившегося в Брюссельской епархии и у племянника владыки Никиты Игоревича Кривошеина.
В книге имеется аннотированный именной указатель. Указатель является уникальным биографическим справочником по истории богословской мысли и связанным с ней персоналиям, а также по истории Православия и других христианских конфессий в XX в.
Книга рассчитана на широкую православную общественность, студентов богословских учебных заведений, всех, кто интересуется историей Церкви и богословской мысли, историей русской эмиграции, а также межконфессиональными отношениями и полемикой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Именно стихотворение Теофиля Готье «Coquetterie posthume» из сборника «Эмали и камеи», приведенное здесь в переводе Н. Гумилева, было названо в письме к матери от 1 октября 1920 г. из Стамбула «единственным утешением» [56]. Впервые оно было напечатано в газете «La Press» 4 августа 1851 г. и посвящалось итальянской возлюбленной поэта Марии Матеи. Очевидно, В. Кривошеин пользовался небольшим по формату парижским изданием 1913 г. [57]. Он с гордостью писал матери, что скоро будет знать наизусть всю книгу. Книга читалась там же, где и писалось письмо: в Стамбуле. Настроение его понятно: поражение Белого движения, утеря Отечества. Даже обломки Византии на территории Турции для него казались тогда лишь «варварским Востоком», ненавидимой им экзотикой, почти что «miserable Byzance», как называл православную империю П. Чаадаев. Однако за этой внешней апологией смерти и человеческой любви скрывается настоящая библейская образность, предчувствующая Тайну Церкви и Воскресения.
Символизм Т. Готье, пусть даже выраженный в форме любовной лирики, глубже используемых им словесных образов. Поэт всегда подчеркивает разницу между культурным контекстом того жанра, который он имитирует, и духовным миром автора и читателя. В своем генезисе лирические миниатюры Т. Готье восходят к византийскому экфрасису — особому жанру эллинистической культуры. В этом смысле выбор будущим архиереем в качестве «единственного утешения» именно «Загробного кокетства» может расцениваться, с одной стороны, как обращение к современному образу, подобному образам библейской Песни песней, а с другой — предвосхищает его проникновение в словесную культуру Византии. Даже в кажущейся безысходности поражения Белого движения, неизбежной эмиграции туда, «где нет надежд», чувствуется неумирающая любовь к России и ко Христу. Так, в привычных формах европейской культуры находят свое выражение по–настоящему евангельские переживания.
Было бы наивно полагать, что интерес к исихазму и Фаворскому свету охватил всю русскую общину в Европе. Но то, что появилось в печатной форме, — это зримые проявления глубинных процессов, выплеснувшиеся на поверхность, а вернее, выступающие из облаков вершины могучей гряды. Обращаясь назад, позже владыка скажет в своих трудах важную фразу о массовом мистическом движении ХГѴ в., часто, но неточно называемом исихазмом. Верность оценки сегодня тонет во всеобщем и зачастую неразборчивом внимании современников к взаимосвязи богословия, духа эпохи, монашеских практик и культуры в Древней Руси XIV—XV веков. Современное развитие паламистики в России во всех культурных и художественных особенностях пытается видеть непосредственное влияние исихазма как особого миросозерцания и богословия определенных византийских церковных групп. Отчасти этому способствовали новаторские работы отца Иоанна Мейндорфа и культурно–исторические эссе И. М. Концевича и Л. A. Успенского. О серьезном влиянии исихазма на социально–политическую ситуацию и идеологию того времени писали и греческие историки и богословы: так, профессор Фессалоникийского университета Антоний Тахиаос в 1962 г. защищает докторскую диссертацию «Влияние исихазма на церковную политику в России» [58].
В результате, в любом видении света в житийной литературе теперь пытаются усмотреть именно Фаворский свет, а церковнополитическое противостояние эпохи Дмитрия Донского рассматривается как столкновение «исихастской партии» и «антипаламитов». Непосредственно с воплощением идей исихастского богословия сопоставляются конкретные росписи новгородских храмов, действительно отличающиеся новизной стиля и иконографической программы [59]. Образ «страны победившего социализма» проецируется на Древнюю Русь Палеологовского времени как «страну победившего исихазма». Не логичнее ли их связать с общими изменениями в христианском искусстве эпохи Палеологов, чем выводить из приверженности мастера исихазму и искать строгие соответствия между богословскими пассажами и формальными приемами? Произведения этого времени — такие же следствия духовного и культурного подъема эпохи, как и само богословие безмолвия, которое, судя по деяниям Константинопольского собора 1351 г., отнюдь не однозначно относилось к «красоте церковной» и литургическому искусству. Соответствующая полемика имела место в самой среде афонского монашества ХГѴ в. и была связана, в частности, с именем Дионисия Текараса. Этот духовный писатель рассматривал практику «омфалоскопии» как отступление от главной иноческой миссии — «возделывать и хранить», предполагающей творчество на поприще культуры. Очевидно, исихастское движение оставалось равнодушным к этим проблемам. Богословское трезвение как одна из составляющих святоотеческого наследия в паламизме оказалось не востребованным его современными пользователями. Приходится звать Кривошеина… В том числе и с его наблюдением, что «развитие общежительного образа (монашества. —А. М.) в ущерб безмолвническому обыкновенно приводило к оскудению внутренней духовной силы монашества и увлечению его внешними, часто чисто хозяйственными формами деятельности».
Статья о святителе Григории — не единственный плод богословских размышлений монаха Василия на Афоне. В письме матери от 2 декабря 1939 г. он упоминает о своей интенсивной переписке с людьми, которые прочли переводы его статьи о Паламе: это предполагало работу богословской мысли. Но почти все мыслилось или даже писалось «в стол». Еще одна из наиболее крупных работ этого периода, известная нам, — это рецензия на вышедшую в 1936 г. книгу оксфордского профессора Р. Даукинса об афонских монастырях, опубликованная в бельгийском издании [60]. Профессор долгое время был директором Британской археологической школы в Афинах и неоднократно посещал Афон в 1905—1935 гг. С Р. Даукинсом Василий Кривошеин был знаком лично и во время последнего посещения подарил ему брошюру А. В. Соловьева, посвященную истории русского монашества на Афоне [61]. Подарок был снабжен собственноручной дарственной надписью и хранится ныне в книжном фонде Р. Даукинса в одной из библиотек Оксфорда — Taylor Institution Slavonic and Modem Greek Library.
Даукинс был не единственным англичанином на поприще печатных мнений о Святой Горе. В 1920—1930–х годах много британцев посещало Афон и составляло свои впечатления. Бывавший здесь в 1925—1926 гг. Р. Байрон (R. Byron) публикует свои заметки в 1928 г. В 1929 г. Ф. В. Хэслак (F. W. Hasluck), библиотекарь Британской школы в Афинах в 1906—1915 гг. и сотрудник Королевского колледжа в Кембридже, также опубликовал книгу об афонских монастырях. Об Афоне писал в 1928 г. и шотландец С. Лох (S. Loch), поселившийся в Уранополисе после малоазийской катастрофы. Лишь Р. Даукинс удостоился оценки монаха Василия — по просьбе Анри Грегуара, бельгийского слависта и византиниста. Учитывая последующую «брюссельскую» судьбу владыки — знаменательное совпадение. «Осененность» его первого печатного труда именем Кондакова продолжилась и в истории с «Византионом» — его первый том, вышедший в 1925 г., открывался некрологом великому ученому.
Но в целом мы очень мало знаем об афонской жизни монаха Василия (Кривошеина). Имеющиеся архивные данные свидетельствуют, что весной 1938 г. он собирался сдавать докторские экзамены в Сергиевском институте в Париже. Редкие письма матери 1938—1940 гг. почти лишены бытовых подробностей, они словно присланы из места, где история «неподвижна», как ее любят постигать современные научные школы: мир, где ничего не происходит. В письмах говорится о посылке книг, проблемах с видом на жительство для вновь приезжающих. «Все по–прежнему» — вот отраженный в письме от 14 декабря 1938 г. лейтмотив монашеской жизни, а ведь меньше трех месяцев прошло после смерти старца Силуана. Правда, в письме от 5 февраля 1940 г. он пишет, что накануне скончался игумен архимандрит Мисаил, но лишь потому, что это действительно произошло накануне. Игумен как раз принимал его в монастырскую братию. Но в монастыре по–прежнему «все тихо и благополучно» [62]. Впрочем, уход иеродиакона Софрония в затвор в одну из пещер–калиб близ Свято–Павлова монастыря (1939) вновь поставил перед будущим владыкой вопрос о смысле и значении святоотеческих трудов в персональной духовной жизни каждого человека: для многих эти тексты были лишь средством потакания собственным желаниям. Отец Василий предложил Софронию 25 мест из «Лествицы» прп. Иоанна, согласно которым тому не стоило уходить в пустынножительство. Но для отца Софрония «единственный аргумент» (то ли благословение старца Силуана, то ли собственное решение) оказывается сильнее [63].

























