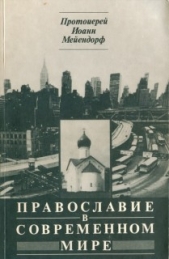Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв.

Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв. читать книгу онлайн
Автор: М. М. Дунаев — профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. В основу книги положен курс лекций, читаемый автором в Московской Духовной Академии и одобренный ее Ученым Советом. Здесь впервые дано систематизированное изложение истории отечественной словесности XVII–XX веков в православном осмыслении. Автор последовательно прослеживает путь религиозных исканий крупнейших и малоизвестных писателей. На примере главных героев лучших произведений отечественной классики показано становление их православного миросозерцания и пути их ко Христу через горнило сомнения. Кроме того, автор анализирует литературу последнего времени, отражающую в себе состояние бездуховного общества и приводит причины его кризиса.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот — Александр Иванович Лужин, пытающийся осмыслить жизнь по канонам шахматной партии (а ведь это только к самоубийству может привести). У Достоевского ключ к расшифровке смысла — Евангелие. Для Набокова существует лишь набор шахматных правил и ходов. Так он, не подозревая о том, выдал себя.
Центральный эпизод "Преступления и наказания", чтение Соней Евангелия по просьбе Раскольникова, Набоков разбирает с неподражаемой самоуверенностью — и ровным счётом ничего не понимает в нём. "Убийца и блудница за чтением Священного Писания — что за вздор! Никакой художественно оправданной связи между гнусным убийцей и несчастной девушкой не существует".
Разъяснять глухому достоинства симфонии Моцарта — тщетное занятие. Но стократ неподсильнее растолковать евангельский смысл романа Достоевского тому, кто за действиями людей видит только ходы шахматной партии. Можно ли шахматную партию оценивать с позиции религиозных заповедей? Того, кто вознамерится толковать ходы различных фигур, опираясь на Заповеди блаженства, можно отправлять в лечебницу. Таков для Набокова и Достоевский.
Набоков бесподобен в своих рассуждениях: "Более того, посмотрите на отсутствие художественной соразмерности. Преступление Раскольникова описано во всех омерзительных подробностях, и автор приводит с десяток различных объяснений этого поступка. Что же касается Сони, мы ни разу не видим, как она занимается своим ремеслом". Нужны омерзительные подробности того как Соня занимается своим ремеслом? Вот перл анализа духовной ситуации.
Набоков, конечно, не остановился бы перед подобными описаниями. Он и шёл к тому — к «Лолите» (1955), а больше и некуда было идти. Всё совершенство своего таланта он употребил на поэтизацию извращения и преуспел. Это возможно, если относиться к жизненным ситуациям как к отвлечённым шахматным композициям.
Сторонников у «Лолиты» множество. Тем более что роман Набокова, как всегда, литературный шедевр. Но это тот откровенный случай, когда красота служит дьяволу.
Часто спрашивают: почему же искусство не может брать из жизни всё для эстетического осмысления? Однако писатель не просто нечто показывает и осмысляет. Он поэтизирует не разврат даже, но извращение.
Так осуществляет себя в художественной практике реалистический (по природе своей) принцип неограниченного отбора жизненных явлений для творческого их отображения. В сочетании с релятивистским мировосприятием, всегда присущим безбожию, это может дать абсолютно безнравственные результаты.
Набоков заставляет читателя сопереживать педофилу, убедительно раскрывая сложность его переживаний. Должно заметить, что и объект страсти главного персонажа, Лолита, не является образцом нравственности и для своих лет также весьма порочна. Под конец всё смешивается настолько, что уже трудно понять, кто жертва, а кто виновник всего. Гумберт Гумберт в итоге оказывается истинно любящим и страдающим от неразделённости своей любви. Это как бы оправдывает его месть тому, кто разрушил его счастье. Набоков с гениальным совершенством изображает как бы растянувшуюся во времени почти до бесконечности финальную сцену убийства главным героем своего врага и вовлекает читателя в это убийство, заставляя испытывать подлинное наслаждение от экстатического ритуала совершающейся мести.
Секрет искусства в том, что воспринимающий непременно переносит в себя хотя бы часть тех действий и переживаний, которые отображены в любом произведении, и чем совершеннее мастерство художника, тем полнее сопереживание. Читатель вместе с Раскольниковым совершает убийство старухи-процентщицы и ввергается в ужас от того, что он невольно совершил. Набоков заставляет читателя пережить удовольствие, наслаждение от извращения, а затем от убийства.
Тем, кто восторгается «Лолитой», нравится именно это испытанное ими удовольствие от запретных эмоций. Человек наслаждается преступлением и остаётся безнаказанным. А то, что это разрушительно воздействует на душу, — не тревожит…
Впрочем, Набоков ставил искусство (вопреки своему любимому Пушкину) вне нравственности вообще. Его убеждение: "…к писанию прозы и стихов не имеют никакого отношения добрые человеческие чувства, или турбины, или религия, или духовные запросы." Вот наглядность релятивизма: что религия, что турбины — всё едино.
Совесть без Бога может дойти до самого ужасного, предупреждал Достоевский. Ох, как не любил его Набоков…
6
С началом "периода застоя" накатилась на Запад третья волна русской эмиграции. Она была обильна литературой, обойти вниманием которую нельзя. Религиозного в ней было мало, поэтому подробно анализировать её нет необходимости. Общую же характеристику этой литературе дал точно, кратко и ёмко Солженицын, не сторонним наблюдателем её вызнававший. Нам остаётся лишь с благодарностью воспроизвести то, что написано им ещё в 1982 году (во 2-й части книги "Угодило зёрнышко промеж двух жерновов").
"И вот — видные российские литераторы хлынули в эмиграцию, освободились наконец от ненавистной цензуры, и тутошнее общество не игнорирует их, но подхватывает их многими издательствами, изданиями, с яркими обложками, находками оформления, рекламами, переводами на языки, — ну, сейчас они нам развернут высокую литературу!
Но что это? Даже те, кто (немногие из них) взялись теперь бранить режим извне, из безопасности, даже и те слова не пикнули о своём подлаживании и услужении ему — о своих там лживых книгах, пьесах и киносценариях, томах о "Пламенных революционерах", — взамен на блага ССП-Литфонда. А нет раскаяния, так и верный признак, что литература мелкая.
Нет, эти освобождённые литераторы — одни бросились в непристойности, и даже буквально в мат, и обильный мат, — как шкодливые мальчишки употребляют свою первую свободу на подхват уличных ругательств. (Как сказал эмигрант Авторханов: там это писалось на стенах уборных, а здесь — в книгах.) Уже по этому можно судить об их художественной беспомощности. Другие, ещё обильнее, — в распахнутый секс. Третьи — в самовыражение, модное словечко, высшее оправдание литературной деятельности. Какой ничтожный принцип. «Самовыражение» не предполагает никакого самоограничения ни в обществе, ни перед Богом. И есть ли ещё что «выражать»? (Замоднело это словечко уже и в СССР.)
А четвёртым знаком ко всему тому — выкрутасный, взбалмошный да порожний авангардизм, интеллектуализм, модернизм, постмодернизм и как их ещё там. Рассчитано на самую привередливую «элиту». (И почему-то отдаются этим элитарным импульсам самые звонкие приверженцы демократии; но уж об искусстве широкодоступном они думают с отвращением. Между тем сформулировал Густав Курбе ещё в 1855: демократическое искусство это и есть реализм.)
Так вот это буйное творчество сдерживала советская цензура? Так — пуста была и трата сил на цензурный каток, коммунисты-то ждали враждебного себе, противоборствующего духа.
И почему же такая требуха не ходила в самиздате? А потому, что самиздат строг к художественному качеству, он просто не трудился бы распространять легковесную чепуху.
А — язык? на каком всё это написано языке? Хотя сия литература и назвала сама себя «русскоязычной», но она пишет не на собственно русском языке, а на жаргоне, это смрадно звучит. Языку-то русскому они прежде всего и изменили (хотя иные даже клянутся в верности именно — русскому языку).
Получили свободу слова — да нечего весомого сказать. Развязались от внешних стеснений — а внутренних у них не оказалось. Вместо воскресшей литературы да полилось непотребное пустозвонство. Литераторы — резвятся. (Достойным особняком стоит в эмигрантской литературе конца 70-х годов Владимир Максимов.) В другом роде упадок, чем под большевистской крышкой, — но упадок. Какая у них ответственность перед будущей Россией, перед юношеством? Стыдно за такую «свободную» литературу, невозможно её приставить к русской прежней. Не становая, а больная, мертворождённая, она лишена той естественной, как воздух, простоты, без которой не бывает большой литературы.