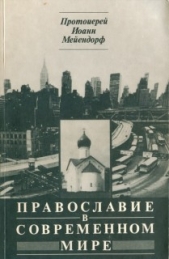Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв.

Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв. читать книгу онлайн
Автор: М. М. Дунаев — профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. В основу книги положен курс лекций, читаемый автором в Московской Духовной Академии и одобренный ее Ученым Советом. Здесь впервые дано систематизированное изложение истории отечественной словесности XVII–XX веков в православном осмыслении. Автор последовательно прослеживает путь религиозных исканий крупнейших и малоизвестных писателей. На примере главных героев лучших произведений отечественной классики показано становление их православного миросозерцания и пути их ко Христу через горнило сомнения. Кроме того, автор анализирует литературу последнего времени, отражающую в себе состояние бездуховного общества и приводит причины его кризиса.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сердце как средоточие духовной жизни — понимаемое так в совпадении со святоотеческой традицией — не может дать человеку пасть окончательно, не даст торжества врагу.
И, кажется, писатель ясно даёт понять, как он мыслит разрешение всех проблем. Ведь все вопросы, логические блуждания, недоумения, тупики мысли порождены больше умом, который не может не растеряться перед возникающими противоречиями. Решение же окончательное должно принять нечто иное в человеке, "чему нет названия". Один из энергетических узлов романа — сцена, когда к солдату Лёшке Шестакову обращается даже не с приказом, а с просьбой воинский начальник со спокойного (относительно, конечно) берега: совершить невозможное, попытаться проложить новую линию связи через насквозь простреливаемую врагом реку и тем помочь своему воинству выстоять в смертельном бою. Лёшка — солдат, и ему может просто приказать находящийся тут же рядом с ним его непосредственный командир, майор Зарубин. Но "Зарубин высунул из шалашика шинели голову, тусклый его взгляд, устремлённый в пустоту, скорее угадывался, чем виделся. Взгляд майора погас — отвернулся он от своего солдата? Бело отсвечивало что-то — лицо или бинт — не разобрать. Наконец Лёшка понял: майор, командир его и отец на всё время военной жизни, предоставил солдату всё решать самому, дав ему тем самым ответ: не судья он ему сейчас. Всё пусть решает совесть и что-то ещё такое, чему названия здесь, на краю жизни, нет".
И Лёшка решается на почти наверняка гибельное дело. Поэтому Промысл Божий на стороне этих людей.
Писатель ненавидит войну. А всё-таки в его общем охватном рассказе о всём сражении, в котором описанные события были лишь малым эпизодом, нельзя не почувствовать радостную гордость за совершённое. Потому что совершили это не мусенки, только мешавшие делу как умели, и не пассивные староверы, отстранившиеся от того дела, а смиренные Шестаковы и Зарубины, подлинные герои минувшей войны. И совершили всё-таки не ради Сталина, а ради земли, которая должна же пережить и сатанинскую власть.
Только ведь с войной не завершается история народа. Однако и последующие времена, не вызывают у писателя ни гордости, ни радости. В том, что создаёт Астафьев на исходе века, слишком много горечи.
Корит и корит он свой родной, русский народ. И выходит порой: нет никого хуже. И впрямь нет? Что за русофобия у русского всеми корнями человека? Да ведь прочие народы — далеко, не всегда их видно. И если пакостят они — то там, у себя. Вот пусть сами с собою и разбираются. А эти, свои, русские люди портят жизнь и себе, и мне, и тебе. Себя уродуют и моё бытие. Кто их хуже?
Астафьев, несомненно, религиозен в воззрениях на мир. Основываясь на некоторых его высказываниях, можно порой назвать религиозность его скорее пантеистической, чем христианской, хотя имя Бога писатель поминает часто. Бог у писателя — Создатель природы, прежде всего. Человек тоже часть природы, но в ней ныне отщепенец, предатель. Что это — руссоизм, толстовство? Лучше не цеплять ярлыки, но просто осмыслить позицию человека. Вот он пишет: "Боже, Боже, как любовно, как щедро наделил ты эту землю лесами, долами и малыми спутниками, их украшающими,… — вся Божья благодать человеку дадена, исцеляйся ею, питайся, красуйся средь этакой благодати.
Да куда там, топчут, жгут иль бросают благодатное добро, и дохнут в городах твари господние без призору, догляду, природу предавшие".
Так пишет Астафьев на самом исходе тысячелетия. Справедливо, хоть и горько. Но каков выход? Замкнуться в пессимизме и отчаянии — первый. Кажется (может, только кажется?), это выбрал для себя сам писатель. Можно вернуться "назад к природе" — выход второй, но утопичный. Многовековая история человечества опровергла подобные притязания давно, даже Руссо не спас. Не может быть человек по природе своей падшей спасителем самого себя. Есть третий выход: понять, что поднимая руку на природу как на дар Божий человеку, мы отвергаем Самого Творца и Дарителя. И воздастся нам за то не потому, что природа есть некая самодостаточная ценность или даже пантеистическое начало, а потому, что она есть творение Божие. И то, что делает с нею человек, — грех. Нужно это понять и не грешить.
Можно сказать, что это тоже утопия. Нет. Утопия — это не то, что недостижимо, но то, что основано на ложных началах. Утопия — обманный ориентир на пути человечества. Ориентиры же должны быть верны, а пойдёт человек по ним или нет, это уже иной вопрос. Вера нужна.
Но к вере у писателя недоверие. Причина омута, что его сознание не воцерковлено. Правы были те критики, которые указывали на это. Вот что он мыслит, когда вспоминает о Церкви: "В великолепно украшенном, по веянию новых времён восстановленном, раззолоченном храме, махая кадилом, попик в старомодном, с Византии ещё привезённом, одеянии бормочет на одряхлевшем, давно в народе забытом языке молитвы, проповедует примитивные, для многих людей просто смешные, банальные истины…Там, в кадильном дыму, проповедуется покорность и смирение, всё время звучит слово — раб…"
Смешные истины? Для кого смешные? Для кичащихся своей просвещённостью, перед которой слово Божие они воспринимают как банальный примитив? Или для тех, кому всё смешно, что мимо кармана и брюха? Писатель сокрушается, что жизнь вразнос пошла. Да оттого и пошла, что весельчаки такие повсюду развелись. А им поддакнули, сердешным…
Астафьеву не нравится слово раб, не по душе вдруг смирение оказалось. Как будто те весельчаки — свободны. Они-то и есть рабы. А в Церкви не рабы, но рабы Божии. Не хочет того понять классик современной литературы. Значит, литература мельчает. Астафьев слово Бог уже с большой буквы пишет, но обращение к Нему — ты — всё ещё с маленькой. И господние тоже с маленькой. Это не орфография, но мировоззрение. Как и пренебрежение к церковным облачениям и к языку — тоже часть философии своего рода.
Писателю по душе те, кто из единства выбиваются, да всё по-своему норовят. Осуждающе звучат его слова:
"Кто устанет, задумается, из ряда выбьется, не так и не туда пойдёт, его… коли церкви дело касается — вольнодумцем, еретиком объявят, вон из храма прогонят, от веры отринут".
Никто его не отринет, сам он себя вне храма поставит. Ведь если "не так и не туда пойдёт" — то куда выйдет?
Начинает казаться, что тяжкий труд подлинного духовного поиска Астафьеву чужд. Не случайно же, размышляя о традициях русской классики, он признался: "Слишком тихий интеллигентный Чехов — не мой писатель. Я люблю ярких, броских, люблю бесовщину".
Конечно, чеховская духовность не всем по плечу, да и любовь к бесовщине здесь метафорическая. А всё же слово сказано…
Василий Иванович Белов
Василий Иванович Белов (р. 1932) с раннего творчества своего вглядывался в тягостную, порой страшную судьбу русской деревни, вне которой не мыслил бытие русского народа. И вообще существенно, что самые талантливые художники отказывали городу в праве быть носителем нравственных народных начал. Тут они решительно расходились с марксистской идеологией, и только масштаб дарования помогал им с трудом, не без потерь, выдерживать её жёсткий напор.
Подобно многим собратьям по перу Белов изначально ищет опору в законах совести, оторванной от веры. Герой "Плотницких рассказов" (1968), старик Олёша Смолин, признаётся:
"Помню, Великим постом привели меня первый раз к попу. На исповедь…Ох, Платонович, эта религия! Она, друг мой, ещё с того разу нервы мне начала портить. А сколько было других разов".
Он же о годах более поздних вспоминает:
"…Я к тому времени и на исповедь не ходил. Уж ежели каяться, так перед самим собой надо каяться. Противу твоей совести не устоять никакому попу".
Всё просто: совесть не нуждается в вере, нравственность пребывает вне Церкви (с её таинствами).
И так все совестливые беловские персонажи, включая и Ивана Африкановича ("Привычное дело", 1967), образ которого стал одной из вершин "деревенской прозы", пребывают вне веры, а если где-то редко и промелькнёт подробность, связанная с религиозной памятью человека, то это остаётся лишь обыденной бытовой частностью.