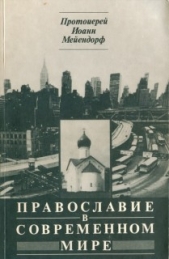Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв.

Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв. читать книгу онлайн
Автор: М. М. Дунаев — профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. В основу книги положен курс лекций, читаемый автором в Московской Духовной Академии и одобренный ее Ученым Советом. Здесь впервые дано систематизированное изложение истории отечественной словесности XVII–XX веков в православном осмыслении. Автор последовательно прослеживает путь религиозных исканий крупнейших и малоизвестных писателей. На примере главных героев лучших произведений отечественной классики показано становление их православного миросозерцания и пути их ко Христу через горнило сомнения. Кроме того, автор анализирует литературу последнего времени, отражающую в себе состояние бездуховного общества и приводит причины его кризиса.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И следуя по обретённой жизненной стезе, скитаясь и служа Богу мирскими делами, бывший монах находит душевный покой в живом чувстве Бога. "Чем меньше имело значения мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог".
Но ведь Толстой вовсе не опорочил идеи монашеской жизни. Следуя тому, что открывалось его творческой интуиции, он сумел показать изнутри те препятствия, какие закрывают путь к духовному совершенству. О. Сергий идёт в монастырь вовсе не из любви к Богу, как единственно должно по святоотеческому учению. Он бежит от своего разочарования, ненависти и презрения к мipy, обманувшему его в лучших надеждах. Движущей силой его подвигов стала гордыня: "Он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его".
Герой повести не в силах одолеть соблазна именно потому, что им изначально руководила гордыня, а не любовь к Богу, — и не было в душе его той опоры, какая необходима для поддержания должной стойкости. Отсутствие этой опоры, что он и сам сознаёт, делает жизнь монаха особенно тяжкой. И борьба его завершилась полным подчинением дьяволу и гордыне своей. Уловленный врагом, о. Сергий готов был к падению — и пал. Это заставляет его порвать с прежней жизнью и вернуться в мip. Именно в мipy обрёл он мир в душе и Бога, Которого не находил в монастырской жизни.
Может ли эта история опровергнуть идею монашества? Нет. Она лишь подтвердит, что в духовном монашеском делании есть свои внутренние законы, отвержение которых гибельно для этого делания.
"Совершенно ясно, — писал об этом С.Булгаков, — что в образе о. Сергия нет ничего общего с теми образами старцев, с которыми сроднилась русская народная душа, и не о старце же Амвросии Оптинском, отражение которого мы имеем в Зосиме Достоевского, говорит нам этот образ. Здесь не Оптина пустынь, но Ясная Поляна, и через мантию монаха здесь слишком просвечивается известная всем блуза. Одним словом, при всей православной внешности о. Сергия из него удалены все действительные элементы православного старчества, и нетрудно понять, как много прямо автобиографического вложено в эту повесть".
Здесь Толстой стал, кажется, жертвой собственного эстетического открытия о тождественности внутренних переживаний всех людей и передал свои душевные проблемы православному подвижнику. В результате, не вышло ничего православного.
Все творения Святых Отцов изобилуют предупреждением против тщеславия, самопревозношения, поисков людской славы (против того, что о. Сергий называет "жизнью для людей", то есть людской славы). Монашеская жизнь о. Сергия протекает вопреки церковному учению — и не может иметь иного результата при этом условии. Толстой же полагал и утверждал, что отдельные истинные подвижники появляются в мipe именно вопреки Церкви:
Однако объективно Толстой показывает истину наперекор своим утверждениям. И опирается на Церковь, насколько ему то доступно, сам о том не подозревая.
Вероятно, в движении сюжета, приведшем о. Сергия за утешением к простой женщине, можно увидеть отголосок одного из эпизодов жития преподобного Макария Великого, которому для смирения были промыслительно указаны как духовный пример две простые женщины, жившие в городе, в суете житейской, но достигшие больших высот в деле внутреннего восхождения к совершенству.
Но в общем построении сюжета Толстой опирался прежде всего на житие преподобного Иакова Постника, финикийского подвижника VI века. Преподобный Иаков, имевший от Бога дар исцелений, точно так же был искушаем блудницей, и для одоления соблазна держал руку над огнём, пока полностью не обгорели суставы одного из пальцев (Толстой заменил это иной подробностью: о. Сергий отрубает себе палец топором). Блудница раскаялась и поведала о его подвиге повсюду — то же мы видим у Толстого. И далее писатель следует точно за житием в истории с больной девицею, ставшей причиною падения инока. Но в реальности всё совершилось гораздо трагичнее: испугавшись после грехопадения, что все узнают о том, Иаков убил девицу и бросил в реку. Затем он впал в крайнее отчаяние и бежал, чтобы служить в мipy завладевшему его душой дьяволу.
Толстой не отважился воспроизвести эти подробности — его о. Сергий не подвергся столь сильному искушению. В реальности же зримо проявилось различие между верой и безверием, раскрыло себя неизреченное милосердие Божие. Отчаявшемуся иноку Иакову был послан некий пустынник, сумевший вернуть его на путь покаяния. Десять лет подвижник вымаливал себе прощение в покаянии — и, получив его, прославил себя ещё большими чудесами.
Вот очевидное различие между церковной и светской секулярной литературой. Несомненно, даже гению Толстого было неподсильно передать чудо покаяния и очищения души от страшного греха. Писатель отступился от невозможного и упростил истину в своём вымысле.
Несомненно также, что в том сказалось и неверие Толстого в духовную силу личности. Впрочем, Толстой само понятие личности отверг. Поэтому его о. Сергий включается в конце повести в некий безликий поток жизни, утрачивает и имя своё, знак личности, именуя себя "рабом Божиим". В таком звании он и осуществляет служение Богу в мipy, обретая в том и Бога и жизнь в Боге.
В большинстве своих сочинений, как художественных, так и публицистических и богословских, Толстой, повторим ещё раз, проповедует против различных недолжных действий и состояний, как индивидуальных, так и общественных. Даже когда писатель пытается ответить на вопрос "что делать?", он больше говорит о том, чего человек не должен делать.
Поэтому пафос толстовской проповеди есть преимущественно пафос разрушительный, но не созидающий. В своей жесточайшей критике греха и порока, в "срывании всех и всяческих масок" (Ленин) — Толстой прав, пока его обличения не выходят за рамки сферы душевного, пока он касается того зла, в котором лежит мір. Но стоит ему коснуться понятий духовного уровня, как он откровенно обнаруживает свою односторонность и несостоятельность.
Критика, даже справедливая, ущербна, когда не сопряжена с указанием положительного выхода из дурной ситуации. Выход же такой только тогда не станет противоречить истине, когда хотя бы отчасти окажется соотнесённым с понятиями духовными, когда будет выстроена ясная иерархия земного и небесного, иначе всё воздвигнется на песке и — рухнет.
Толстой же отверг веру в качестве подлинного средства познания мipa, обрекая себя на абсолютную глухоту к духовному. В этом трагедия великого художника. Толстой пристально внимателен к душевно-телесной стороне жизни, он зорок во всём, что присуще этому уровню бытия, но преобладание в человеке только душевности и телесности есть состояние греховное.
"Что касается до душевности и телесности, то они сами по себе, как замечено уже, безгрешны, как естественные нам; но человек, сформировавшийся по душевности или, ещё хуже, по телесности, не безгрешен, — писал святитель Феофан Затворник. — Он виновен в том, что дал в себе господство тому, что не предназначено к господству и должно занимать подчинённое положение. И выходит, что хотя душевность естественна, быть душевным человеку — неестественно; также и плотяность естественна, но быть плотяным человеку — неестественно. Погрешность здесь в исключительном преобладании того, что должно состоять в подчинении".
Именно поэтому, даже когда Толстой пытается создать программу положительного делания, она оказывается несостоятельной.
Таков итог последнего романа Толстого — «Воскресение» (1899).
Трудно во всей русской литературе отыскать нечто равное этому роману по силе обличительной авторской язвительности в изображении человеческого порока. Ей уступает даже сатира Щедрина. Но вряд ли справедливо называть описательную манеру Толстого сатирической, а если это и сатира, то особого рода. Писатель просто и бесхитростно называет вещи своими именами, использует слова в нейтральном, а не в экспрессивно-метафорическом значении.
Вся пустота и фальшь цивилизации, все извращения государственного устроения, весь пошлый и нелепый фарс бездушного отношения к делу — Толстым показывается бесхитростно, и оттого правота его признаётся неопровержимою. Но он неверно строит свою логику, утверждая: поскольку все проявления подобного устройства общественной жизни фальшивы, то и само устройство достойно безусловного отрицания. Подлинный же вывод может быть и иным: если проявления подобного устроения фальшивы, то они могут иметь преимущественно не внешнюю, но внутреннюю причину: укоренённую в душах людских греховность, и поэтому борьба с ложью посредством внешнего уничтожения общественных институтов не даст желаемого, ибо общественная жизнь всё же уложится в какую-то форму, а при неизжитом внутреннем грехе все формы будут неизбежно искажены и проникнуты ложью и фальшью.