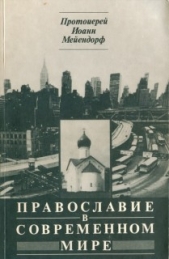Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв.

Вера в горниле Сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв. читать книгу онлайн
Автор: М. М. Дунаев — профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор филологических наук. В основу книги положен курс лекций, читаемый автором в Московской Духовной Академии и одобренный ее Ученым Советом. Здесь впервые дано систематизированное изложение истории отечественной словесности XVII–XX веков в православном осмыслении. Автор последовательно прослеживает путь религиозных исканий крупнейших и малоизвестных писателей. На примере главных героев лучших произведений отечественной классики показано становление их православного миросозерцания и пути их ко Христу через горнило сомнения. Кроме того, автор анализирует литературу последнего времени, отражающую в себе состояние бездуховного общества и приводит причины его кризиса.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Версилов страдает, как и все подобные ему, дробностью, нецельностью сознания и мировосприятия: он осмысляет бытие по частям, порой в частных своих идеях будучи весьма глубок и остроумен, однако не умея при том сопрягать частности в единство. Оттого он и противоречив во всём.
"Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих" (Иак. 1,8).
Вот это раздвоение и есть причина и одновременно следствие (ещё один порочный круг) разорванности сознания Версилова. И Достоевский глубоко прозревает основу такой порочной самозамкнутости, самоё раздвоенность натуры человека: "Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь, — признаётся Версилов ближним своим. — Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превесёлую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту весёлую вещь, и Бог знает зачем, то есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил хотите. Я знал однажды одного доктора, который на похоронах своего отца, в церкви, вдруг засвистал. Право, я боялся прийти сегодня на похороны, потому что мне с чего-то пришло в голову непременное убеждение, что я вдруг засвищу или захохочу, как этот несчастный доктор, который довольно нехорошо кончил… И, право, не знаю, почему мне всё припоминается сегодня этот доктор; до того припоминается, что не отвязаться. Знаешь, Соня, вот я взял опять этот образ (он взял его и вертел в руках), и знаешь, мне ужасно хочется теперь, вот сию секунду, ударить его об печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины — ни больше ни меньше".
Тут несомненна бесовская одержимость, ещё не персонифицированная как позднее, в случае с Иваном Карамазовым, вступившим в беседу со своим специфическим двойником. Однако тот же бес сидит и в Версилове, и природа его явно обнаруживает себя в той превесёлой вещи, к которой он принуждает человека: "Когда Татьяна Павловна перед тем вскрикнула: "Оставь образ!" — то выхватила икону из его рук и держала в своей руке. Вдруг он, с последним словом своим, стремительно вскочил, мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись, изо всех сил ударил его об угол изразцовой печки. Образ раскололся ровно на два куска… Он вдруг обернулся к нам, и его бледное лицо вдруг всё покраснело, почти побагровело, и каждая черточка в лице его задрожала и заходила".
"…Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю: пригвожден бо есть ум мой земным вещам: что сотворю, не вем" (Молитва ко святому Иоанну Предтече).
"Чрезвычайная психологическая проницательность Достоевского, его талант проникать в тайные и тёмные бездны человеческой души, побудившие Ницше назвать этого писателя единственным учителем психологии наших дней, достаточно известны, — писал Франк. — Я хотел бы, однако, подчеркнуть, что методическая предпосылка этой проникновенности состоит в том, что для Достоевского человеческая душа — не особенная маленькая и производная область; она имеет бесконечные глубины, которыми укореняется в последних безднах бытия и непосредственно связывается с Самим Богом — или же с сатаной, — а в мгновения истинной страсти затопляется общими метафизическими силами бытия как такового. Достоевского интересует лишь то, что имеет в человеческой жизни действительную реальность и в качестве таковой пробивает стену обычного, общепринятого, кажущегося бытия; и эта реальность более не является уединённой и ограниченной психической жизнью как таковой, но принадлежит уже, можно сказать, к космическим или метафизическим силам бытия, для проявления которых индивидуальное сознание есть лишь медиум".
Достоевский раскрывает, как бесовская одержимость подчиняет себе свободу человека, разрушает личность. Так парадоксально проявляется следствие абсолютизированного своеволия: утверждение своеволия есть отвержение воли Творца, что неизбежно ввергает человека во власть бесовскую, лишает его истинно активной воли.
Однако зло не онтологично душе, но является, как учит Православие, лишь следствием грехопадения, то есть бесовского соблазна. Именно так ощущается зло и Достоевским, что точно заметил Вышеславцев: "Достоевский обладал ‹…› редкой зоркостью ко злу; чувство первородного греха ‹…› живёт повсюду в его произведениях…".
Понимание этого не снимает вины с человека, но раскрывает истину: зло действует извне, внедряясь в душу, в глубочайшие её глубины, а не изнутри, не из первозданной природы "внутреннего человека". Мы видим у Достоевского следование, быть может интуитивное, — православному догмату о совершенстве первозданной природы человека.
Святитель Афанасий Великий, описывая житие преподобного Антония Великого и ссылаясь на его изречения, утверждал: "…добродетель имеет потребность в нашей только воле; потому что добродетель в нас, и из нас образуется. Она образуется в душе, у которой разумные силы действуют согласно с её естеством. А сего достигает душа, когда пребывает, какою сотворена; сотворена же она доброй и совершенно правой. Посему и Иисус Навин, заповедуя народу, сказал: исправите сердце ваше к Господу Богу Израилеву (Нав. 24,23); и Иоанн говорит: правы творите стези ваши (Матф. 3,3). Ибо душе быть правою значит — разумной ее силе быть в таком согласии с естеством, в каком она создана. Когда уклоняется душа и делается несообразною с естеством, тогда называется это пороком души. Итак, это дело не трудно. Если пребываем, какими созданы, то мы добродетельны. Если же рассуждаем худо, то осуждаемся, как порочные. Если бы добродетель была чем-либо приобретаемым отвне; то, без сомнения, трудно было бы стать Добродетельным. Если же она в нас; то будем охранять себя от нечистых помыслов, и соблюдем Господу душу, как приятый от Него залог, чтобы признал Он в ней творение Свое, когда душа точно такова, какою сотворил ее Бог. ‹…›
Итак, во-первых, знаем, что демоны называются так не потому, что такими сотворены. Бог не творил ничего злого. Напротив того, и они созданы были добрыми; но, ниспав с высоты небесного разумения и вращаясь уже около земли, как язычников обольщали мечтаниями, так и нам христианам завидуя, все приводят в движение, желая воспрепятствовать нашему восхождению на небеса, чтобы нам не взойти туда, откуда ниспали они".
Достоевский показывает, как именно подчинение воли человека злым духам рождает зло в мире. И недаром он постоянно предупреждал: оценивать человека нужно не по совершаемым им грехам, а по идеалу, к которому стремится. Ибо идеал отражает непорочность тварного естества, тогда как дела дурные — бесовскую соблазнённость. "Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, — отметил он однажды в Записной книжке, — …он чувствует страдание и назвал это грехом".
Версилов в пространстве романа «Подросток» становится рабом болезненной страсти к Катерине Николаевне Ахмаковой, и страсть доводит его в итоге до попытки самоубийства — истинной цели бесовского воздействия на его душу. Вот та "загадка Версилова", какую пытаются разгадать многие персонажи романа, и прежде прочих — сам Подросток. Страсть влечёт Версилова к признанию власти рока, фатума, как догадывается о том Аркадий, отчасти разочарованный, что разгадка оказывается столь простою. Страсть образует в нём и вокруг него "вихрь чувств", готовый ввергнуть в хаос и самого Версилова, и многих вблизи него.
В загадке Версилова нет поистине ничего загадочного. Его существование — в метаниях маловерия. Он и тянется к Богу, и в эгоизме не в силах пожертвовать для Него даже малостью.
Беда Версилова, что в гордыне своей он, стремясь к вере, хочет опереться на собственные лишь силы, стремится своевольно овладеть сокровищами духовными. Это рождает тоску и побуждает искать возможность бытия без Бога. Тогда-то и возникает в нём мечта об идиллической утопии безбожного мира. Но Версилов умён, слишком умён, чтобы успокоиться на собственном измышлении. Он понимает невозможность безбожного бытия, а то, что он хоть на время позволяет себе допустить достижимость идиллии, — это его малая уступка себе, своему эгоизму, своей жажде земного счастья, осуществлённого пусть даже и в измышленной реальности.