Проводы журавлей
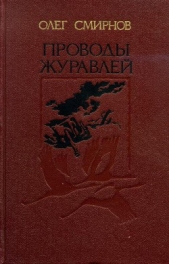
Проводы журавлей читать книгу онлайн
В новую книгу известного советского писателя включены повести «Свеча не угаснет», «Проводы журавлей» и «Остаток дней». Первые две написаны на материале Великой Отечественной войны, в центре их — образы молодых защитников Родины, последняя — о нашей современности, о преемственности и развитии традиций, о борьбе нового с отживающим, косным. В книге созданы яркие, запоминающиеся характеры советских людей — и тех, кто отстоял Родину в годы военных испытаний, и тех, кто, продолжая их дело, отстаивает ныне мир на земле. Война и мир — вот центральная проблема сборника, объединяющая все три повести Олега Смирнова, написанные в последнее время.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Очереди мне знакомы, Петр Филимонович.
— В общем поздравляю, поздравляю, батенька. Что ни говорите, лишнее подтверждение заслуг Александра Ивановича. Не каждому, знаете ли, выпадает такая честь.
Они попрощались, Мирошников услышал частые гудки и тоже положил трубку на рычажки. Профессор Синицын, Петр Филимонович, святая простота. Та, что хуже воровства. И еще раздражает в нем это сочетание: голубчик, батенька, а рядом — протолкнул. Нет, прогресс затронул и профессора Синицына. Насчет проталкивания в курсе, иначе говоря — усек.
А между прочим, тесть Николай Евдокимович панически боится очередей. Какой мужчина их жалует, Мирошников не исключение, но чтобы так паниковать при виде людского хвоста в магазине, на остановке, у ларька, у кассы — просто бежит с поля боя старый генерал. Выручает в таких случаях теща. Женщина, которая бережет мужчину.
«…И выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного».
Близкие? Где же они? Их нету. Разве что профессор Синицын. Родные? Это я, Вадим Мирошников. Один. Потому что Маша и Витюшка, не говоря уже о Ермиловых, были далековаты от покойного. Еще дальше, чем я. Вот вам и родные с близкими у такого хорошего, достойного человека, каким был отец. Вот как судьба распорядилась…
А близкий отца, профессор Синицын, так ничего пока и не сказал об отцовских чертежах. Да и Вадим Мирошников, родной, запамятовал спросить: ознакомился ли Петр Филимонович с ними, что их ожидает, эти последние отцовские работы? Возможно, Синицын еще не выбрал время, суета ведь всех заедает.
Лежа в кровати, согреваясь у дышавшего теплом Машиного тела, Мирошников думал о финале отцовской жизни — на семидесятом году… доктор технических наук, профессор… траурная рамка в газете, — ее итогах, ее уроках и почему-то вспомнил нынешний сентябрь и как уже десятого числа над загорским зеленым по-летнему лесом низко, едва не задевая за верхушки, медленно и мерно взмахивая крылами, улетал на юг журавлиный клин — признак ранней, преждевременной осени. Вспомнил и забеспокоился глухо, потаенно и необъяснимо.
На службе Вадим Александрович делал повседневное: отвечал и сам звонил но телефону, составлял и печатал справки, набрасывал проект важного отношения, перекидывался фразами с Петрухиным и другими сослуживцами, шутил с Людочкой, секретаршей Ричарда Михайловича, докладывал с а м о м у о подготовке экспонатов на международную выставку в Сокольниках — и сквозь это каждодневное, привычное и необходимое, как иголка ели сквозь упавший на нее желтый березовый лист, пробивалось осознание вины всех, с кем Вадим Александрович общался сегодня. Все виноваты перед отцом — от праведника Петрухина до умницы таранного типа Ричарда Михайловича.
За окнами скучно серел блеклый зимний денек. В комнате с утра до вечера, утомляя зрение, горело электричество, в желтое стекло тыкались снежинки, падали дальше, вниз, чтобы потыкаться в остальных пятнадцати этажах, но и там их не впускали. Бесприютством и сиротством веяло от этого. А затем Мирошников, глядя в окно, подумал: «У отца-то есть приют, вечный. А вот сирота — это я. Хотя со смертью лишь одного человека сиротеет вся Земля. Ведь каждый человек — это целый материк мыслей, чувств и поступков. Да… Один из четырех миллиардов шестисот миллионов жителей Земли ушел в небытие… А сколько ушло в небытие за вторую мировую? Пятьдесят миллионов, только в нашей стране — двадцать миллионов… Ужасающая цифирь… Но сколько погибнет в третьей мировой, термоядерной? Тут и считать невозможно, тоска и ужас охватывают. Это будет последняя война, четвертой мировой уже не будет: некому воевать…»
Мирошников умел это — и обязанности свои канцелярские выполнял, и думал совершенно о постороннем. Но почему же все виноваты перед отцом, в чем? А я больше всех виноват. Почему, в чем? Каждая смерть должна очищать живущих. От житейской скверны, от несправедливости, зла, пороков. Очищает ли? Однако не перегибай палку, Вадим Александрович: те же человеки виноваты и тогда, когда торжествует справедливость, утверждается добро, искореняются пороки. Не упрощай, все гораздо сложнее и противоречивее. Просто люди по своей природе обязаны стремиться к идеалу и становиться лучше, чем они были до сих пор. Ну и сам-то ты стремишься и становишься? Молчишь? Вот то-то и оно. Рассуждать в глобальном масштабе легче. Делать добро, поступать по совести самому — как кажется, это нетрудно — на словах. А вот на деле…
Весь рабочий день нет-нет и всплывали эти мысли. Он пытался именовать их философическими, отбрасывал, но они вновь лезли в голову. Чертовы мыслишки, не отделаешься от них…
В вечерней мгле Мирошников вышел из министерства и не зарысил, как всегда, к метро, а неспешно, будто бы затрудненно, пошагал от фонаря к фонарю, к неоново-красной букве М. Пощипывал морозец, метелило. И в холодном, освежающем воздухе пованивало выхлопными газами, но все-таки дышалось, но все-таки легкие очищались от скопившейся за восемь часов сидения в тесной, душной комнате дряни. По временам комнату, понятно, проветривали, но это мало что давало, если стол к столу. Уличный воздух бодрил, воскрешал простейшие радости бытия — идешь, дышишь, уже хорошо.
Увидел: шатко опираясь на металлические костыли, на мусорной урне сидит пьяный, сильно пьяный — едва не падает с урны. Прохожие брезгливо проходили мимо. Прошел мимо и Мирошников, бросивши, однако, боковой взгляд: заросший щетиной, одутловатый, еще не старый мужик, слава богу, не инвалид Отечественной войны, молод слишком, хотя доводилось видеть в этом неприглядии и инвалидов Великой Отечественной.
Мирошников миновал восседавшего на урне, раскачивающегося, пробовавшего привстать алкаша, когда за спиной загрохотали металлические костыли. Вадим Александрович обернулся: попытки же встать кончились тем, что пьянчуга вместе с костылями свалился с урны. Никто не подошел к распластанному телу. Вздохнув, Вадим Александрович вернулся, наклонился над лежавшим. В ноздри шибануло вонью водочного перегара, мочи. Пересиливая омерзение, стал помогать пьяному, кое-как усадил его на урну, подал костыли. Что дальше? Стоять караулить? Вести куда-то? Куда? Бессмысленно и то и другое.
Стоял рядом и не знал, как поступить. И удивительно: злости убавлялось, а мужчину жалел больше и больше. Ведь алкоголизм — болезнь, которую не враз-то и вылечишь. Сам себя довел до этого? Конечно. Но по какой причине? Но — болен, тяжко болен. Хотя и противно его зреть. Что надо, какое потрясение, чтобы превратить его в нормальное человекоподобное существо? Разве чья-то смерть на него подействует. А ведь на одной с ним земле, в одно время сколько живет благородных, прекрасных людей. Ими, ими красна земля…
Как вкопанная, остановилась рядышком милицейская машина, хлопнула дверца.
— Бери его, Пахомов… Тепленький… Не подберем — замерзнет… А вы кто, гражданин?
Вопрос был обращен к Мирошникову, и тот пожал плечами:
— Да вот… проходил…
— С ним не пили?
— Позвольте! Я ж объясняю: проходил мимо, решил помочь, падает ведь с урны, инвалид…
— Пахомов, затаскивайте пошустрей… Значит, вы посторонний? Ну-ну… А то бывает, посторонний под видом помощи обшаривает у пьяного карманы…
— Да как вы смеете!
— Так я ж вас персонально ни в чем не подозреваю, гражданин. Не будем нервничать… Я так, вообще. В принципе… Пахомов, готово?
Пахомов — молоденький, румянощекий, только что, видать, отслужил в армии действительную, еще не насмотрелся в милиции на всякое — кивнул: «Готово, сержант!» — и милиционеры сели в машину.
Оставшись возле бетонной, массивной урны один, Мирошников покачал головой. Обхамили по первое число. Вмешался — и получил. Пройди спокойненько мимо — и был бы до сих пор спокойненек. Влез по примеру отца, тот во все дырки влезал. Значит, правильно, что встрял? Правильно! Все правильно!
И Мирошников усмехнулся над происшествием, размахивая «дипломатом», затрусил к метро. Но и усмешку вскоре стер, и размахивать «дипломатом» перестал, и зашагал тише — подумал о судьбе спившегося инвалида, с чего спился и что его ждет в конце концов, и опять надо всем возобладала жалость: погибает же человек! И это от отца? Или от матери? Или от самого себя?






















