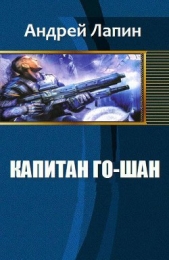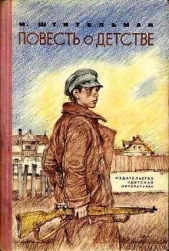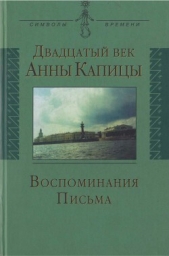Севастопольская повесть

Севастопольская повесть читать книгу онлайн
«Севастопольская повесть», или, как гласит ее подзаголовок, «Последний день одной батареи», - это взволнованный рассказ о мужественных защитниках города-героя Севастополя в дни Великой Отечественной войны.Таких героических батарей в те дни в Севастополе было много. Отрезанные от основных войск и окруженные врагом, воины продолжали мужественно сражаться, а в самую последнюю минуту вызывали на себя огонь севастопольских батарей, чтобы погибнуть вместе с многочисленным врагом, прорвавшимся на батарею.В небольшой по размерам повести автор подробно и тщательно проследил судьбы своих героев, их жизнь, любовь, надежды и стремления. В центре внимания автора - командир батареи Алексей Воротаев, журналист Озарнин, бойцы Федя Посохин, Алеша Голоденко, Яков Билик, мичман Ганичев. Разные по характеру, по довоенным занятиям, они все роднятся общей для них любовью к Родине и преданностью партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Чего уж… по волосам плакать… Отвоевались. Какая это война? Ждем ката, чтобы он нас за хрип и на рею… - И в приступе внезапной ярости прокричал одним духом: - Всем нам амба!
Федя не питал никаких иллюзий относительно ожидающей их всех участи. Но он был военный моряк, который по закону и обычаю разделяет участь своего корабля, какой бы она горестной ни была. А неуемная жажда жизни не делала его ни слепым, ни чрезмерно эгоистичным, ни трусливым.
Когда- то Федя панически боялся моря. А море било его за это смертным боем. Он жестоко воевал со своим страхом, пока не одолел его. Однажды в шторм он вызвался пойти за птицей, чуть живой упавшей на палубу. Он пошел, держась за протянутые канаты, которые лопались, как нитки, скользил, падал и полз с разбитыми в кровь коленями и ободранными руками. И в тот момент, когда на борт вскочила гладкая черная волна с зелеными глазами и остановилась на миг, высматривая, на кого бы ей кинуться -на обессилевшего человека или на птицу, цеплявшуюся обломанными коготками за обледенелую палубу, - Федя опередил волну и прикрыл птицу грудью.
- Ты не один. Всем не сладко, - сказал он. - Наперекор идти надо. Главное - не думать о себе. А то, знаешь, и дров наломать недолго. Будет тебе психовать, Ваня, пойдем давай в кубрик. А то застыл я тут с тобой, все шпангоуты трещат. - На него напала дрожь, передалась голосу, и он умолк.
Молчал и Бирилев, тревожно думая: хорошо еще, что попался ему Федя. И только у самого кубрика остановился и прошептал порывисто и с чувством неловкости:
- Спасибо, Федя! Никогда тебя не забуду.
Федя пожал плечами, не понимая, за что благодарит его «этот малахольный».
9. Озарнин
Воротаев побывал на всех огневых точках. Он обошел оборону, занимавшую по окружности немногим менее километра. Время осады и убыль в людях привели к сокращению фронта батареи. Люди глубоко зарылись в землю. Между орудиями, поставленными на склонах горы, помещались выдвинутые вперед пулеметные гнезда, удаленные от орудийных двориков на пятьдесят метров, чтобы немцы не могли слишком близко подойти к орудиям и забросать их гранатами. Дальше шли траншеи, окопы полного профиля, блиндажи с накатами из рельсов и подземными ходами сообщения, а еще дальше - посты сторожевого охранения, два ряда проволочных заграждений, рвы, завалы, минные поля.
«Тут бы держаться и держаться, были бы только снаряды», - подумал Воротаев с горечью.
Он постоял у пушки образца 1928 года с расколотым стволом, покрытым снежной щетиной. Было в этой устаревшей и разбитой пушке что-то бессильное и все же грозное.
Воротаев наметил место на вершине горы для новой круговой обороны. Чем яснее вырисовывалась близость конца, тем упрямей, лихорадочней изощрялась мысль в поисках каких-то мер, могущих если не предотвратить, то хоть отодвинуть неизбежную катастрофу. О себе Воротаев не думал, непривычно ему было заниматься собой. С детства, со школьной скамьи, ему внушали мысль, что нет ничего мельче и ничтожнее себялюбия и эгоизма и нет ничего возвышеннее любви к людям.
Продолжая обход, Воротаев заглянул и на камбуз, где рыжеватый, веснушчатый кок Шалва Лебанидзе с неунывающим оптимизмом почти из ничего готовил что-то, напевая приятным тенорком грузинскую песню. Этот музыкальный паренек помнил неисчислимое множество песен, романсов, арий, услышанных по радио. Он всегда пел, порой даже не зная, что поет, и превосходно изображал то флейту, то гобой, то кларнет.
Воротаев любил музыку, его мысли часто сопровождались неясными мелодиями, звучавшими в его мозгу. Возможно, это свойство привило ему море, неумолчный и вечный орган, не ведающий безмолвия и тишины даже в штиль.
Командир батареи обсудил с коком, каким образом хоть ненадолго обмануть голод людей, а уходя, спросил, что за песню тот пел. Шалва просиял, его лицо расплылось в довольной улыбке.
- А хорошая песня, товарищ старший лейтенант! - сказал он с мягким, певучим акцентом, придававшим его речи какую-то особую прелесть добродушия. - Я ее от деда слышал. Понимаешь, дед сам песни сочинял, а потом, понимаешь, люди пели. - И Шалва перевел, как умел, слова песни по-русски: - «Три вещи у меня, друг, - песня, конь и кинжал. Песня - для любимой девушки, конь - для себя, кинжал - для врага».
Слова были под стать мотиву. Воротаев ушел, повторяя их про себя.
В кубрике автоматчиков он задержался подле Мити Мельникова, который тихо бредил. Он неузнаваемо переменился с того часа, как его ранило, совсем другой человек.
Бывало, по вечерам, улегшись под черным южным небом, в котором мерцают и перемигиваются осенние звезды, бойцы шутили, смеялись, и всегда слышен был зычный голос Мельникова, его раскатистый хохот. Потом устраивали немудрящий оркестр, именуя его джазом, - кто играл на ложках, кто на баяне, на балалайке, и здесь заводилой был Митя Мельников…
Воротаев вздохнул, склонился и поправил осторожно бушлат под его головой. Митя открыл глаза, посмотрел на Воротаева темным и тусклым взором и не узнал его.
- А-а… ты… маешься все… - произнес он, тяжко дыша. - Смерти боишься? Знатный швабрист… А народ не боится… Народ себя на жалеет. А ты?… Ты… - На миг придя в себя и признав Воротаева, удивленно сказал: - А где Бирилев? Он тут только что был.
- Ну как ты, Митя? - спросил Воротаев участливо. - Может, на КП перейдешь? Там тебе лучше будет.
Но Митя отрицательно покачал головой.
- Не-ет! Я еще на позиции выйду… Во мне еще крови осталось… - сказал он протяжно, вновь погружаясь в бред и забытье.
Продрогший до костей возвратился Воротаев на КП и обрадовался, увидев, что заботливый старик Терентий прибрал в блиндаже, вскипятил воду.
За высоким ящиком, заменявшим стол, под полуслепым светом коптилки Озарнин, корреспондент флотской газеты, что-то писал, склонив низко голову с поблескивающей в спутанной шевелюре сединой. Он прибыл на батарею на несколько дней и застрял здесь.
- Пишешь? Что ты пишешь? - спросил Воротаев.
Озарнин поднял утомленные глаза и несколько секунд смотрел на Воротаева невидящим взором разбуженного, но еще не очнувшегося от сна человека.
- Что пишу? А? Вот заполню вахтенный журнал.
- Рано. Сутки еще не кончились. Еще «языка» допросить надо. И как ты можешь писать при таком свете, почти что в темноте?
- А близорукие вблизи хорошо видят, - ответил Озарнин, отодвигая тетрадь, в которую изо дня в день записывалось обо всем, что происходило на батарее. У него был глуховатый голос, а серые глаза смотрели с близорукой настойчивостью и чуть косили.
Он недавно разбил очки. Бойцы не знали, как помочь его беде, а Федя даже раздобыл ему превосходный цейсовский бинокль, полагая, что коли нельзя приблизить человека к предмету, то можно приблизить предмет к человеку.
Некоторое время Воротаев сидел, обняв закоченевшими ладонями кружку с кипятком, безжизненный и безучастный ко всему, потом отпил несколько глотков горячей воды.
- А с Мельниковым плохо.
Озарнин ничего не ответил.
Батальонный комиссар Лев Львович Озарнин был старший по званию на батарее. В сущности, со смертью комиссара батареи Кобозева он выполнял его обязанности.
- Ну и шерсть, все лицо зудит! - сказал Озарнин, почесывая заросшую щеку. - Скосить бы - так ни бритвы, ни мыла. Черт! Ничто так не освежает, как бритье, - точно десять лет за борт сбрасываешь. В девятнадцатом году у нас был комбриг, который говорил: «Бритый командир перед строем - это почище всякой агитации».
Воротаев удивленно посмотрел на него.
«О чем думает! Значит, поспал». А вслух произнес:
- Что ты там начеркал в вахтенном журнале? Прочти-ка, Лев Львович! - Воротаев придавал журналу особое значение и проверял каждую запись. Это был дневник, летопись жизни и подвигов одной зенитной батареи.
Короткая, сухая запись, сделанная Озарниным, содержала, однако, все, что надо.
«На батарее 42 человека. Легкораненых 10, тяжело - 1. Моральное состояние людей удовлетворительное. Выбывшее из строя орудие № 2 нарушило систему круговой обороны, обнажив сектор, не защищенный более артогнем. Людские резервы исчерпаны и этой бреши не заткнуть. Снаряды на исходе. Для рукопашной схватки люди слишком истощены…»