Так было(Тайны войны-2)
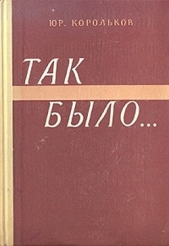
Так было(Тайны войны-2) читать книгу онлайн
Книга Юрия Королькова «Так было…» является продолжением романа-хроники «Тайны войны» и повествует о дальнейших событиях во время второй мировой войны. Автор рассказывает о самоотверженной антифашистской борьбе людей интернационального долга и о вероломстве реакционных политиков, о противоречиях в империалистическом лагере и о роли советских людей, оказавшихся по ту сторону фронта.
Действие романа происходит в ставке Гитлера и в антифашистском подполье Германии, в кабинете Черчилля и на заседаниях американских магнатов, среди итальянских солдат под Сталинградом и в фашистских лагерях смерти, в штабе де Голля и в восставшем Париже, среди греческих патриотов и на баррикадах Варшавы, на тегеранской конференции и у партизан в горах Словакии, на побережье Ла-Манша при открытии второго фронта и в тайной квартире американского резидента Аллена Даллеса... Как и первая книга, роман написан на документальной основе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кюблер немало изменился за эти годы. Лоб его стал как будто еще выше — волосы спереди поредели и стали совсем седыми, но глаза по-прежнему горят молодо. Он в полосатой одежде с лагерным номером и красным треугольником на груди. Высокий, худой…
Рабочий день кончился, и заключенные ненадолго предоставлены самим себе. — Кюблер устало идет через лагерь, заходит к блокштубе — к писарю барака, — на эту должность удалось поставить надежного коммуниста.
— Достал закурить? — спрашивает Кюблер. На языке подполья это значит: задание выполнил?
Блокштубе пожимает плечами:
— Можно за паек хлеба…
Значит — выполнил…
Потом писарь идет в уборную, а следом за ним Кюблер. В уборной никого нет, и тут можно шепотом перекинуться несколькими словами.
— Я переписал только три страницы, Рудольф, — говорит блокштубе. — Остальные постараюсь переписать завтра.
— Хорошо, но не задерживай дольше. Письмо надо еще передать в другой блок.
Кюблер берет плотно свернутые листки, прячет их под ремень и уходит.
Листки читают по очереди. Это письмо Тельмана, точнее — лишь часть письма. Его доставили из Бауцена, из тюрьмы, где сидит Тельман, он жив, продолжает бороться… Одиннадцать лет фашистской тюрьмы не сломили Эрнста. Какой несокрушимый характер!..
Рудольф еще несколько дней назад прочитал письмо, но он хочет прочитать его еще раз. Тогда оно слишком сильно его взволновало. Теперь он воспримет спокойнее.
Улучив момент, Кюблер исчезает в бараке и забирается на самые верхние нары. Рядом с ним устраивается сосед по бараку — сегодня его очередь читать письмо. Это бывший социал-демократ, ставший в лагере коммунистом. В Бухенвальде он очень давно — лет десять. Знал еще отца Рудольфа, Кюблера-старшего. В Бухенвальде провел с ним несколько лет, а теперь лежит на тюремных нарах рядом с сыном погибшего друга.
Рудольф передает ему листок за листком. Оба сосредоточенно читают и следят, как бы не застал их блоковый, — в это время в бараке не разрешают лежать на нарах. Оба волнуются, хоть в письме как будто бы говорится о знакомых, пережитых каждым событиях. Но это забывается, и остается лишь Эрнст Тельман, его рассказ о борьбе в фашистских застенках. Это письмо Эрнст написал товарищу по заключению, который и переправил его на волю. Оно стало достоянием многих узников, и каждому казалось, что именно ему пишет Тельман из одиночной камеры, его учит стойкости, преданности своему делу.
«Ты, вероятно, хотел бы узнать кое-что о моей жизни в заточении, — писал Тельман. — Не хватило бы большой книги, чтобы полностью описать все переживания и события…
3 марта 1933 года я был арестован в Берлине, в комнате, которую я снимал у одного инвалида войны. Отряд полицейских с револьверами в руках — 20 рядовых во главе с лейтенантом — вломились в квартиру, а затем ринулись в мою комнату. На меня надели наручники. Затем — в машину и в ближайший полицейский участок, а оттуда под охраной особой полицейской команды в берлинский полицей-президиум на Александерплац. Краткий допрос. Пять часов ожидания. Наконец я был водворен в камеру тамошней полицейской тюрьмы…
23 мая 1933 года я был переведен в Старый Моабит, в берлинский дом предварительного заключения. Два с половиной года я находился под следствием в предварительном заключении; в течение этого времени допрашивался четырьмя следователями, иногда по 10 часов ежедневно…
В январе 1934 года четыре гестаповских чиновника в автомобиле доставили меня из Моабита в центральное гестапо. Прямо из машины меня повели в комнату, находившуюся на четвертом этаже. Там меня встретили восемь гестаповских чиновников среднего и высшего ранга, которые издевательски подняли кулаки на манер приветствия «Рот фронт».
Описать, что затем произошло в этой комнате на протяжении четырех с половиной часов — от 5 до 9 часов 30 минут вечера, — почти невозможно. Ко мне были применены все самые жестокие меры принуждения, которые только можно себе тред ставить, чтобы любым образом вынудить признания и получить данные о товарищах, которые были ранее арестованы, а также об их политических действиях. Гестаповцы начали с фамильярного тона, с уговоров. Этот маневр не имел никакого успеха. Тогда последовало применение грубой физической силы. У меня были выбиты четыре зуба. Это также не дало никаких результатов.
Третьим актом был гипноз, который, однако, на меня не подействовал, — эти попытки разбились о мою тогда еще очень крепкую нервную систему. Хотя гипнотизер почти 45 минут производил вокруг меня свои манипуляции, я сохранял полное спокойствие и ясность мысли. Так прошло три с половиной часа. Однако кульминацией этой драмы был заключительный акт. С меня сорвали одежду. Два гестаповца положили меня поперек табурета. Один из них принялся размеренно избивать меня тяжелой плетью из кожи бегемота. От боли я несколько раз вскрикнул.
Тогда мне заткнули рот, и удары посыпались на меня градом. Меня били по лицу кулаками, по груди и спине плетью. Брошенный на пол, я лежал ничком, уткнувшись лицом в пол и ни слова не отвечая на вопросы. Меня пинали ногами. Я все старался закрыть лицо. Я изнемогал. Сердце начало сдавать. Я уже ничего не слышал и не видел. К тому же меня мучила такая жажда, что изо рта шла пена, и я почти задыхался. Будучи в полуобморочном состоянии, я все же не терял сознания, но и не чувствовал уже никакой боли и думал только о том, как избавиться от этой пытки.
Внезапно в комнату вбежал человек и шепотом сказал, что уборщицы, как и другие присутствующие в здании люди, слышали громкие крики. Он попросил быстрее закончить допрос. В 9 часов 30 минут вечера палачи кончили свою забаву. Мне перевязали полотенцем кровоточащие раны на голове, обернули разбитый затылок шарфом, приказали сесть на табурет, лицом к стене, пригрозив, что в случае, если я обернусь, будут немедленно стрелять. Два гестаповца направили на меня револьверы. Разумеется, я обернулся тотчас же, чтобы увидеть, что эти парни собираются делать со мной дальше. Но больше ничего не произошло. Из столовой вызвали официанта, который принес им поесть и выпить. С состраданием он посмотрел на меня. Вслед за этим меня спустили на лифте в подвал и заперли там в тюремную камеру…»
Дальше в письме был пропуск — из Бауцена его доставляли по частям, и, вероятно, пропущенный кусок не был доставлен или попал в руки гестаповцев. Теперь Тельман говорил со своим другом о будущем.
«Революционная деятельность требует больших жертв, — писал он. — Я не безродный человек. Я немец с большим национальным и вместе с тем интернациональным опытом. Мой народ, к которому я принадлежу, который я люблю, — немецкий народ, и моя нация, которой я горжусь, — немецкая нация, смелая, гордая и стойкая нация. Я кровь от крови, плоть от плоти немецкого рабочего класса. И потому, как сын революционного класса, я стал позднее его революционным вождем.
Мученичество, которое я принял на себя ради великих идеалов социализма XX века, — не единичное явление, не изолировано, не оторвано от немецкого народа: оно разделяется многими и многими безымянными узниками (к которым принадлежишь и ты, мой дорогой товарищ по судьбе) и находит отклик в мощном многомиллионном движении, которое охватило и вдохновило все народы Советского Союза и во многих странах мира нашло свое идеологическое и организационное распространение.
Никто не может предсказать, что будет завтра или послезавтра со мной. Мы не можем знать, не причинят ли мне, как это часто случалось, новых неприятностей и страданий. Но разве отпустят меня так просто вновь в большой мир прямо из тюремных стен?
Нет! Добровольно они этого не сделают. Вероятен один исход, как ни страшно, ни горько о нем говорить. А именно: при продвижении Советской Армии, в связи с ухудшающимся общим военным положением национал-социалистский режим сделает все возможное, чтобы объявить Тельману мат. В такой обстановке гитлеровский режим не отступит ни перед чем, чтобы заблаговременно устранить Тельмана, то есть удалить его или прикончить раз и навсегда. Только исторически необходимая самопомощь может принести здесь иную развязку, которая послужит на пользу всему революционному движению…»

























