Линия фронта
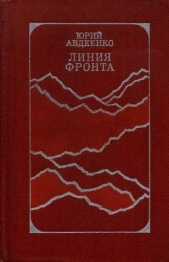
Линия фронта читать книгу онлайн
В сборник вошли роман «Этот маленький город», действие которого происходит в трудном, грозном 1942 году возле города Туапсе на Северном Кавказе, и новая повесть «Любовь учителя истории», в которой действие происходит тоже на Северном Кавказе, события военных лет рассматриваются через призму сегодняшнего дня.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Здравствуйте, — радостно и просто сказала Света. — Я думала, что вы не вернетесь никогда.
Страдала Барбара Крафтувна, метался Збигнев Цыбульский… Мелькали кадры, крупные и средние. Вообще, кадров было много для одного фильма. А может, это просто показалось Николаю Ивановичу.
Когда вышли из клуба, все думал: «Надо бы поцеловать… Поцеловать… Вот дойдем до трансформаторной будки, и я поцелую. Там тень, там Светлана не увидит моего покрасневшего лица, не заметит смущения…»
У трансформаторной будки действительно лежала тень, но не такая густая, чтобы нельзя было различить голый череп на железной дверце и угрожающую надпись под ним: «Не трогать! Смертельно!»
— Нет, — покачала головой Света, упершись ладонями в его грудь. — Только не здесь. Уж лучше на кладбище.
Кладбище было за речкой. А над кладбищем, точно белье на проволоке, колыхался висячий мост, один вид которого вызывал у Николая Ивановича головокружение даже при ясном солнечном свете.
Он не уловил юмора в словах девушки, потому что от рождения был глух к смешному, а при мысли о висячем мосте у него вообще пропало желание целовать Светлану.
Совершенно неожиданно для себя он сказал:
— Грек Диоген Лаэртский в своем обширном произведении «Десять книг о жизни, учении и изречении…»…
Светлана не слушала его:
— Ой, смотрите!
Из зарослей шибляка, небрежно припорошенных луной, вышла на дорогу легкая белая лошадь и вместе с ней белый жеребенок, на ногах тонких, будто соломинки. С завидным достоинством процокали они по каменке в сторону сельсовета. И скрылись, повернув в левый переулок.
— Так что же сказал ваш грек, который сидел в бочке? — с улыбкой вспомнила Света; лицо ее было красивым и гордым, как на портретах в Эрмитаже. Николай Иванович подумал про свою далеко не актерскую внешность, подумал о прозвище Буратино, которое злило его в школе, а в педвузе приводило в уныние, нехотя пояснил:
— В бочке сидел не Диоген Лаэртский, и Диоген-Киник…
— Значит, было два Диогена? — мило удивилась Светлана.
— Два, — грустно подтвердил он.
— Кто бы мог подумать, — вежливо заметила она. И добавила без всякой связи: — А мне пора домой.
Скрипнула калитка, вздрогнула ветка челизника, колыхнув воздух, точно воду. Света крикнула с крыльца:
— Будете в Москве, приходите в гости!
Николай понял, что она уезжает и что они не встретятся больше никогда.
Как и сейчас, полная луна висела тогда над самой вершиной горы, а внизу хорошо высвечивались заросли самшита, гордого «железного дерева», чьи маленькие, с тыквенную семечку, листья казались густым роем веселых светляков.
По улице шел мальчишка. Громко, пожалуй, было слышно на все село и за окраинами, пел:
Николай Иванович узнал своего ученика, который выступал на всех школьных вечерах и которого уже возили петь в Краснодар, сказал строго:
— Хасапетов, ты почему кричишь?
— Я не кричу, Николай Иванович. Я пою, — остановился мальчишка, вытянув руки но швам.
— Люди спят.
— Нет. — Мальчишка завертел головой. — Сегодня хоккей транслируют из Чехословакии.
— Все равно нельзя петь так громко.
— Тише не получается.
— У тебя на все готов ответ… А между тем в двенадцать лет мы пели другие песни.
— Какие?
— Ну допустим… «День родной…» Нет… «Край родной, навек любимый… То березка, то рябина…»
— И я эту песню пою. На вечерах.
— Сейчас тоже вечер, — нравоучительно напомнил Николай Иванович.
— Но не школьный, — резонно заметил мальчишка.
— Это не имеет значения… Иди лучше учи урок. А то завтра спрошу, запоешь у доски.
— До свиданья, Николай Иванович, — покорно сказал мальчишка. И ушел. И песня больше не нарушала тишины ночи.
На втором этаже в кабинете директора горел свет. Глициния, которая плелась под окном, тепло зеленела листьями. И клумба у школы розовела тоже тепло, в том самом месте, где свет падал из окна. Мягкие, чуть заметные тени лежали на каменных ступенях, ведущих в подъезд. И сквозь стеклянную дверь виден был вестибюль школы, освещаемый из глубины коридора несильной дежурной лампочкой.
Николай Иванович открыл дверь. Пахло хлоркой, мытыми деревянными полами. Шаги звучали так глухо, что хотелось ступать на цыпочках.
— Это и есть наш Николай Иванович Горобец, — сказал директор, обращаясь к человеку в белом костюме, сидевшему у стола в старомодном глубоком кресле.
Человек в белом костюме не встал, не подал руки, просто сухо кивнул, при этом губы его болезненно сморщились, он ссутулился, положил руки на колени. Сказал, не глядя на Николая Ивановича:
— Я прочитал вашу статью в «Курортной газете». Статью «Подвиг отделения».
Захар Матвеевич сделал жест рукой, что Николаю Ивановичу лучше бы сесть, однако Николай Иванович не сел, остался стоять. Сказал сдержанно:
— Слушаю вас.
— Все в ней неправильно, — не повернув головы, сказал человек в белом костюме.
Передвинув лампу, Захар Матвеевич сел на стул. Сделал вид, что читает какие-то бумаги, но Николай Иванович знал, старик не читает ничего — он весь внимание, ждет продолжения разговора. Разговора неприятного, это уж точно.
— В статье рассказывается о подвиге отделения сержанта Кухаркина, прикрывшего осенью сорок второго года перевал в районе горы Мудрой. — Николай Иванович почему-то хотел объяснить то, что незнакомому было уже известно, раз он читал статью. Причиной несообразительности могло быть только волнение. И он решил взять себя в руки. Замолчал.
— Судя по вашему возрасту, вы не воевали? — хмуро спросил человек в белом костюме. И наконец повернул к Николаю Ивановичу свое лицо. Лицо как лицо. Немолодое, усталое. Ни шрамов, ни ожогов.
— Да, — сказал Николай Иванович, — я родился в сорок шестом году.
— Какого же черта вы пишете о том, чего не знаете? — Человек в белом костюме произнес эти слова без злобы, но очень недовольно. Очень.
— Николай Иванович интересуется боевой историей нашего края, — счел нужным пояснить Захар Матвеевич. При этом его широкое, мясистое лицо посерело и даже сморщилось, что случалось всегда, когда он нервничал. — Поиски героев, мест подвига, боевой славы… Он посвящает этому все свое свободное время. Я… Я бы сказал, это любовь его. Дело, без которого он себя не мыслит.
Человек в белом костюме развел руками. Что он хотел этим сказать? Возразить? Выразить недоумение? Удивиться? Во всяком случае жест не получился.
— Судя по всему, — вздохнул Николай Иванович, — вы принадлежите к той немногочисленной группе ветеранов, которые в отличие от истинных героев никак не поделят славу. Они обычно начинают так: эта пушка стояла не там, пулемет стрелял не туда. Почему вы написали об Иванове, а я лежал рядом, через окоп, тоже стрелял, а обо мне ни слова?
Николаю Ивановичу не нравились слова, которые он произносил, и голос не нравился, и тон. Он чувствовал, что краснеет и пальцы его липнут от пота. И вообще, все это нехорошо. Сделав усилие, он оборвал фразу. Сказал после паузы как можно спокойнее:
— Чтобы убедиться в правоте статьи, достаточно проехать к подножию горы Мудрой и прочитать надпись на обелиске. Там они все лежат во главе с сержантом Кухаркиным.
— Я сержант Кухаркин, — сказал мужчина в белом костюме и тяжело встал.
Старушенция читала на террасе. В ярком платье с короткими рукавами, она сидела в плетеном кресле и читала без очков, держа книгу в вытянутых руках, потому что страдала дальнозоркостью. Кресло поскрипывало, если увлеченная чтением старушенция ерзала или подвигалась вперед, и тогда мошки и ночные бабочки, кружащиеся у лампочки, разлетались на мгновение в разные стороны, но вскоре дружно возвращались к свету. Аромат спелого винограда пробирался на террасу из темноты сада, спускающегося под гору к улице, где вместо тротуаров росли полынь, ежевика, репейник.


























