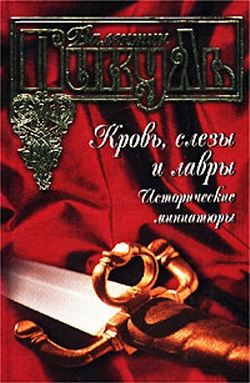Книга о разведчиках

Книга о разведчиках читать книгу онлайн
Автор книги — участник Великой Отечественной войны, фронтовой разведчик, участвовавший в Сталинградской и Курской битвах, прошедший через множество боев и фронтов. Содержание ее составил рассказ о боевых буднях войсковой разведки, о людях высокой души и беспримерного мужества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Меня кто-то настойчиво потянул за левый рукав. Я выдернул руку. Меня потянули снова и более настойчиво, оттеснили от военного.
— Ты чего раскипятился? — зашептал мне в лицо раненный в руку боец.
— А чего они, сидят тут в тылу, понимаешь…
— Ты погоди. Тоже мне фронтовик нашелся. — Он действовал на меня своим спокойствием, как гипнозом. — Винтовку, говоришь, надо? Пойди, походи здесь. Принеси.
— Где это здесь? — Я никак не мог понять его.
— Ну, здесь. Вот между повозками. Погляди, сколько их здесь. Вон видишь, спит под телегой добрый молодец, а винтовка тебя дожидается в сторонке…
Удивительно, что тогда у меня хватило выдержки пройти мимо того, без знаков различия в петлицах, молча и бросить «свою» винтовку в общую кучу. А он меня не признал в веренице раненых. А может, только сделал вид, что не признал…
Сестра осмотрела мою повязку, похвалила того усатого — правильно наложил, подбинтовала еще, чтобы унять кровь.
— Идите вон в тот лесочек, — указала за железную дорогу. — Там санбат, у них автомашины, отвезут вас в госпиталь в Камышин.
И я побрел, заплетаясь ногами. Километра три надо было идти. Дошел. А там не только санбата — запаха его не было. Я обругал сестру заочно. Посидел на пенечке. Не идти же обратно! Поплелся дальше по степи на северо-восток. И не я один. Много легкораненых (я тут впервые узнал, что я легкораненый) брело по степи, держась подальше от больших дорог, по которым шло много машин. Мне объяснили, что где много машин, там и вражеская авиация рыскает. И мы тащились по степи под палящим солнцем, без капли воды, без куска хлеба (вещмешок-то с сухарями у меня остался в окопе на передовой).
Тошнота не проходила. Тряслись колени. Кружилась голова. Все это, наверное, от потери крови.
Медленно отдалялся грохот фронта. Где-то справа ухали бомбы, вздрагивала под ногами земля — значит, действительно бомбили колонны автомашин…
Я шагал и думал: вот и побывал на фронте. Рвался, рвался сюда. А теперь остался от него в голове артиллерийский грохот, трескотня автоматов, винтовочная пальба, вой сирен пикирующих бомбардировщиков. Ничего толком не понял. Кругом смерть, смерть, как мошкара в знойный день на болоте, и запах от трупов. А над всем музыка, душераздирающая. Нет, музыка — это сейчас, из беседки, от старого патефона. Это она, симфония, окрашивает в свой цвет то, что я вспоминаю, вернее — куда она меня только что увела…
Я шел по степи, по знойной степи с сотнями и тысячами таких, как я. К вечеру раненые подтягивались к шоссе. Брел и я за всеми. Ночью нас подбирали попутные автомашины, и мы ехали десяток-два километров. А утром — снова в степь. Почему-то после всего пережитого на передовой не тянуло опять под бомбежку…
Страшно хотелось есть — больше суток во рту маковой росинки не было. Пить я еще пил в деревнях, а поесть просить стеснялся. И вот в одной деревушке, когда от голода уже не было силы передвигать ноги, я, наконец, решился, постучал в тесовую калитку. Вышла пожилая женщина.
— Тетенька, дайте, пожалуйста… попить… — Так и не насмелился произнести то слово, которое неотступно вертелось в голове.
Она вынесла в железном ковшике воды. Пил я вяло, с трудом — меня уже мутило от воды. Старушка смотрела на меня печально.
— Тебе, должно, поесть надо, сынок, а не попить?
Я поспешно закивал головой.
— Много ноне раненых идет, все раздали. Тыква у меня есть пареная. Будешь?
Я, растроганный бабкиной догадливостью, с трудом сглотнул подступивший к горлу комок и снова закивал.
Хозяйка вынесла половину огромной душистой тыквы. Я опустился на скамейку у калитки и с жадностью набросился на нее. Что может быть вкуснее паренной в русской печи тыквы! Старушка стояла у калитки, прислонившись спиной к стояку, и, подперев щеку пальцем, жалостливо смотрела на меня. Время от времени она смахивала с морщинистой щеки выкатившуюся слезу. Я же не смахивал своих слез — я их не замечал. А может, их и не было в тот раз. Может, они были после, может, только сейчас на крыльце они появились — скорее всего, именно сейчас, их просто музыка выдавила…
Неделю добирался я до Камышина.
Сестра эвакогоспиталя только вздохнула тяжело — повязку на моем плече уже нельзя было размотать — она, пропитанная кровью, превратилась в панцирь. Щипцами, которыми гипс снимают, резали ее. Раствором перекиси обрабатывала рану сестра — пена поднялась. А зуд! Аж ногами сучил от нетерпения. Не выдержал, выхватил у сестры пинцет со шматком ваты и стал скрести плечо. Сердце зашлось, чуть со стула не упал…
И вот сижу на крыльце, жду перевязки. Признаться, не жду, я забыл о ней, потому что нахожусь в тумане то ли от слез, застлавших глаза, то ли от забытья, закрывшего мне все сегодняшнее. Все мысли там, позади, разбрелись — от Зины Киус до последней бомбежки санитарного поезда, вышедшего ночью из Камышина по направлению к Красному Яру. А музыка рвет душу…
И ни одной мыслишки о будущем — все в пережитом.
Разве знал я тогда, сидя на крыльце, что через полгода, в марте сорок третьего, после ликвидации сталинградской группировки гитлеровцев, судьба снова приведет меня туда же, на станцию Котлубань, уже разведчиком, с медалью «За отвагу» на груди. И отыщу я ту воронку, в которой перевязывал меня усатый минометчик. И с прежним волнением новичка буду искать среди пролежавших здесь целую зиму, а теперь вытаявших трупов своего товарища, втайне надеясь не найти его. И я его не нашел — значит, выжил он, значит, эвакуировали его. А вот усатого минометчика встретил. Много трупов лежало вокруг, очень много. Пулеметное гнездо, залитое водой, чистой, прозрачной снеговой водой, сквозь которую видны красный от ржавчины «максим» и двое скрючившихся пулеметчиков на дне. Лежит пэтээровец, обняв свою бронебойку. Все лежат так, как глубокой осенью сорок второго застала их смерть, напоминая об одном из мгновений великой битвы… Лежит и усатый минометчик навзничь около воронки с еле заметной дыркой во лбу…
Но это я увижу через полгода. А пока сижу на крыльце и с благодарностью смотрю на старый патефон — какая, оказывается, сила заключена в этой ободранной коробке!
Глава четвертая. Летчица
В нашей палате разговоры о ней велись изо дня в день. Да, видимо, не только в нашей. Во всем госпитале из сотни «ранбельных» (так называл нас обслуживающий персонал) она была единственной женщиной. Никто не видел ее в глаза, но утверждали, что красоты неописуемой. Интригующим шепотом передавали, что она ппж («полевая походная жена») какого-то командира авиаполка и что вовсе не «ранбольная», а в госпиталь попала «по женскому делу». Мужчины нашей палаты понимающе переглядывались при этом. Я же хлопал глазами — никак не мог уловить тайный смысл этих слов. Чувствовал только, что намекают на что-то не совсем лестное по отношению к ней.
Палата наша наполовину была лежачей. Другая же половина, позавтракав, разбредалась до обеда по огромному корпусу госпиталя, а пообедав, снова исчезала — кто в красный уголок поиграть на бильярде, в шашки, забить «козла», кто в библиотеку, а кто и просто поточить лясы в другую палату или в вестибюль. Нас же, лежачих, окончательно догрызала скука. Тот, у кого уже позади остались стоны, охи и ахи, лежал в полудреме или самым беззастенчивым образом спал — спал за прошлый недосып и в запас на будущее. Тот, кто уже отоспался — бездумно глазел в потолок. Все уже было передумано, переговорено, и лишь вечерами охотно судачили о ней, о летчице.
По принципу образования слов «директорша», «председательша», то есть жена директора, жена председателя, называли и ее летчицей — женой летчика.
Потом кто-то узнал «из достоверных источников», что вовсе она не ппж, а самая что ни на есть законная жена авиационного генерала и что у нее перебита нога при бомбежке штаба авиасоединения, при котором она жила с мужем, и что будто ей давно за пятьдесят — старуха старухой.
Это последнее разочаровало всех. Никто не хотел верить такому «достоверному источнику». И вскоре с общего согласия решили, что это сплетня, что наша летчица молодая и, конечно, красивая.