Ночи и рассветы
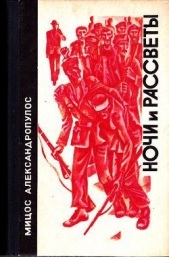
Ночи и рассветы читать книгу онлайн
Мицос Александропулос — известный греческий писатель-коммунист, участник движения Сопротивления. Живет в СССР с 1956 года.
Роман-дилогия состоит из двух книг — «Город» и «Горы», рассказывающих о двух периодах борьбы с фашизмом в годы второй мировой войны.
В первой части дилогии действие развертывается в столице Греции зимой 1941 года, когда герой романа Космас, спасаясь от преследования оккупационных войск, бежит из провинции в Афины. Там он находит хотя и опасный, но единственно верный путь, вступая в ряды национального Сопротивления.
Во второй части автор повествует о героике партизанской войны, о борьбе греческого народа против оккупантов.
Эта книга полна суровой правды, посвящена людям мужественным, смелым, прекрасным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дверь снова открывается.
— Может, хочешь, чтобы мы тебя развязали, Космас?.. Не хочешь? Хорошо, мы еще можем подождать.
Они оставляют дверь полуоткрытой. Вместе с болью приходит головокружение. Веки тяжелеют, глаза болят. Космас хочет позвать своих мучителей, но сдерживается. Нет, он еще потерпит, он не сдастся. Ему кажется, что нужно перенести какой-то критический момент и тогда будет легче. Он тяжело дышит, как паровоз. Пот течет рекой. Космасу кажется, что он взбирается на какую-то вершину. Он заносит ногу. Стоит ему взобраться на вершину, и все мучения будут позади. И тут перед ним разверзается пропасть, и его увлекает черный смерч.
Они пришли и развязали его. Он почувствовал это, когда ему распеленали ноги, но притворился спящим.
Потом Космас открыл глаза и увидел одного из них. Он стоял у стены с сигаретой в зубах.
— В другой раз, — сказал он Космасу, — ты подохнешь в этих обмотках.
И вышел, приказав, чтобы Космаса увели.
IV
Ко всем мучениям прибавилось еще одно — бессонница. Никогда еще Космас не чувствовал такую потребность во сне, как в ту ночь. Ему хотелось забыться и забыть все: и жажду, и боль, и мысли о завтрашнем дне. Забыться и уснуть. Но стоило ему сомкнуть глаза, как дверь с грохотом распахивалась.
— Эй, ты, за что тебя сюда упекли?
— Да так, пустяки, — тотчас отвечали за дверью. — Завтра он все выложит и пойдет себе с богом на все четыре стороны.
— А… Ну, тогда пусть себе спит.
Они ушли. Через четверть часа, когда веки Космаса снова начинали тяжелеть, нагрянули опять.
— Ну, что ж ты порешил, друг-товарищ? Думаешь, да?.. Ну ладно, думай!
Дверь захлопнулась с такой силой, что казалось, рушится дом. Очевидно, они рассчитывали, измотав его нервы, лишить его всякой способности сопротивляться.
Один притворился испуганным:
— Да не умер ли он? Несите сюда кирку и лопату!
Другого одолевала жалость:
— Землячок, не сварить ли тебе кофейку? Не принести ли холодной водички?
Черт возьми! Этот был хуже всех. Космас не любил кофе, но сейчас ему ничего так не хотелось, как маленькой чашечки кофе. Горького-прегорького. И потом холодной воды.
Еще одна такая ночь — и он умрет. Из всего, что с ним проделывали, бессонница была страшнее всего.
Время от времени Космас ощупывал свои руки и икры. Там, где была старая рана, кожа горела так сильно, будто ее густо смазали йодом. И как только подкрадывалась мысль, что еще немного времени и его снова обмотают канатами, все тело покрывалось холодным потом. Его уже не терзали жажда, боль и бессонница. Им владел страх. Космас боялся, что не выдержит, силы оставят его и он, сам того не желая, заговорит.
Мысль о том, что он может не выдержать, мысль, которая всегда представлялась ему невероятной, сейчас не покидала Космаса.
В эти минуты он не мог удержаться от слез. Он заново переживал и смерть своего друга Аргириса, и жизнь в подвале Андрикоса, и посещение министра, и работу в изюмной лавке Исидора, и сборища в салоне Кацотакисов, и разговоры с англичанином Крисом, и встречу с поэтом, и свидания с Тенисом… Разве все они, каждый из них, не указывали ему дорогу? Он встретил их на перекрестке жизни, и они звали его за собой. Но он выбрал другой путь, и путь этот привел его на Голгофу.
Не сожалеет ли он сейчас об этом?
Лучше честно сознаться самому себе сейчас, пока он один и ни одна душа не видит и не слышит его. Скоро за ним придут. И этот допрос — они так сказали, да он и сам это понимает — будет последним. Так пусть он скажет себе: сожалеет ли он?
Космас настойчиво копается в своей душе. Он ищет ответа и не находит его. Наверно, его и не может быть, потому что Космас не избирал этот путь. Он встал на него, как пешеход, который, ступив на горную тропу, неизбежно должен сделать следующий шаг. Он знает, что на этот путь его привели не Случайные встречи, не слепые обстоятельства. Привела вся его жизнь: образ мыслей и прочитанные книги, неудачи и желания, планы на будущее и воспоминания о прошлом, подсознательная жажда честной дороги и, наконец и прежде всего, мрачная тень оккупации, нависшая над ним и над всей страной и принесшая им рабство, голод, позор и опустошение.
Дороги войны не выбирают. Они видны издали алой линией фронта, вспышками выстрелов, клубами дыма и огня. Он не мог не пойти туда. «А ведь в самом деле выбора и не было, — думал Космас. — Выбирать можно то, что тебе не принадлежит, то, что можно и не выбрать…
А этот путь был во мне самом, это я сам, и нужно дойти до конца. Лучше конец, чем начало другого пути, который не будет моим…» И этот конец был уже близок.
Они, вероятно, тоже решили кончать побыстрее. Начали как вчера: пусть не говорит ни про пакет, ни про вчерашнюю прокламацию, они уже узнали у других, Пусть расскажет, как он поступил в типографию. Имена можно не называть. Им ведь известно, что Космас связался с коммунистами по ошибке, думал, что они ведут патриотическую борьбу. Но он и сам вскоре убедился бы, что цели у них совсем не патриотические…
Потом, как и вчера, повели в соседнюю комнату. Чемодан с канатами по-прежнему на подоконнике. Бинтуют терпеливо, методично.
— Ты стараешься не подвести товарищей, а между тем они не такие уж дураки. Вчера схватили одного вашего вожака. Так он не позволил пальцем до себя дотронуться, сел и настрочил целую тетрадь показаний.
Канаты наложены. Уже с порога его предупредили в последний раз:
— Второй раз ни одно сердце этих пеленок не выдерживает. Говорю это тебе, чтоб попусту не надеялся. Если не хочешь сказать про типографию, скажи про листовку или про пакет… Если сейчас не помнишь, не беда. Мы тебя развяжем, а когда вспомнишь, скажешь. Понятно?
Космас не ответил.
— Ну ладно. Мы тут поиграем в тавлеи. Надумаешь — крикни.
Дверь оставили открытой. Он слышал, как доску поставили на стол, как перемешали шашки. Один напевал: «Как поеду я, матушка, на чужбину…» Другой насвистывал ему в лад.
Сегодня канаты подействовали сразу — впились, врезались в кожу и, разрывая ее, вонзились в плоть, точно стремились добраться до кости. Кровь застучала, забилась…
Он с первой же минуты понял, что мука продлится недолго.
В дверь кто-то заглянул. Лицо его казалось расплывчатым. Голос долетал откуда-то издалека.
— Эй, парень, скажи хоть, что потом вспомнишь.
Космас ожидал, что сегодня боль будет невыносимой. Но теперь он, напротив, чувствовал, что в нем угасает даже способность ощущать боль. В глазах потемнело, голова человека в дверях закружилась и пропала…
Потом он почувствовал какой-то запах. Камфара.
Он очнулся от громкого возгласа:
— Космас!
Над ним стоял высокий мужчина с усиками. Видно было, что он взволнован.
— Если бы я не поспел, тебе бы плохо пришлось. Понимаешь ты это или нет?
Уж не сон ли это? Зойопулос! Зойопулос, который смотрит на него глазами, полными ужаса.
— Ай-я-яй, вот так, ни за что ни про что, чуть не погиб человек! Ты узнаешь меня, Космас?
Космас попытался сказать, что знать его не хочет, губы его пошевелились, но он не смог произнести ни звука. Однако Зойопулос его понял.
— Ну ладно, ладно, не волнуйся. Чем тебе помочь, Космас? Чего ты хочешь? Воды?
Принесли воду. Край стакана коснулся его губ. Сейчас, наверно, отнимут. Он жадно втянул воду, стараясь отпить как можно больше.
— Спокойно, спокойно! Не торопись!
Он выпил целый стакан.
— Еще. Принесли еще.
— Что ты еще хочешь, Космас?
— Ничего не хочу. Хочу, чтобы меня оставили в покое.
— Хорошо. Я это устрою.
Космаса повели на первый этаж. Когда они проходили по коридору, кто-то крикнул:
— Значит, сознался? Вот молодчина!
— Заткнись, Панафанасис! — одернул Зойопулос, Космаса ввели в маленькую комнату.
— Положите его сюда. Осторожнее.
























