Проводы журавлей
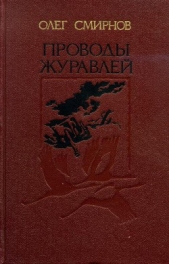
Проводы журавлей читать книгу онлайн
В новую книгу известного советского писателя включены повести «Свеча не угаснет», «Проводы журавлей» и «Остаток дней». Первые две написаны на материале Великой Отечественной войны, в центре их — образы молодых защитников Родины, последняя — о нашей современности, о преемственности и развитии традиций, о борьбе нового с отживающим, косным. В книге созданы яркие, запоминающиеся характеры советских людей — и тех, кто отстоял Родину в годы военных испытаний, и тех, кто, продолжая их дело, отстаивает ныне мир на земле. Война и мир — вот центральная проблема сборника, объединяющая все три повести Олега Смирнова, написанные в последнее время.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Куда они удалялись от поляны, Чернышев не понимал. Голоса возбужденных кинозрителей оставались за спиной, стихали, будто уходили в песок. Наклонив голову, Аня помалкивала. Помалкивал и он, отводя от ее лица и от своего то березовые, то еловые ветви в липкой паутине. Невнятно пахло разогретой за день смолой, травами и неистребимо — лекарствами. От медсанбатовского расположения, от Ани, да и от капитана Чернышева, пожалуй. Можно сказать, дух медицины витал над опушкой, меж стволами и ветками. Где-то на городских задворках брехали польские собаки — так же, впрочем, как и русские.
Внезапно Аня остановилась и сказала:
— Знаешь, Коля, я сегодня получила письмо. От мамы, из Нижнего Тагила. Прочла — и сама не своя… Мама пишет: на рынке вытащили сумочку, там была и похоронка на папу…
— Украли? Но похоронку-то хоть вернули… подбросили?
— Нет, не подбросили. Ты знаешь, Коля, у мамы не было документа дороже: единственное, что от него осталось. Память о муже, о моем отце! Хранила на дне сундучка, под замком. А тут потребовалось в военкомат… Для нее и для меня он умер как бы вторично, теперь уже навсегда…
— Эх, мерзавцы! — Чернышев скрипнул зубами. — Валялся в тыловых госпиталях, да и служил в тех городах, мрази там по ноздри… Для меня, Аня, воры, бандиты, грабители, дезертиры, насильники, спекулянты, шпана всяческая — ненавистны. Ненавижу их больше, чем фашистов. С фашистами ясно — бей в бою. А эти же гады затаились по норам. Покамест народ воюет, они… эх, сволочи, рука б моя не дрогнула! Отец где погиб?
— Под Москвой. В декабре сорок первого. Сержант был, сапер…
— Ну держись! — Он легонько обнял ее за плечи и тут же отпустил. — Держись, Аня!
— А что остается делать? Держусь… Вот и кино поглядела…
В чащобе, совсем близко, зловеще вскрикнула ночная птица. Аня не вздрогнула, не испугалась, не приникла к нему. Стояла, опустив голову и руки, смотрела под ноги, словно искала там что-то потерянное. И Чернышев вперился в землю, тоже искал безвозвратно утерянное. А вообще Аня — молодчага, мужественная девушка. Да и он, капитан Чернышев, не слабак. Еще начальник гарнизона, охранявшего мост через Буг, русочубый лейтенант Гуляйвитер, храбрец, весельчак и бабник, укорял Чернышева: «Ты, Мыкола, боец справный, но мягкий и незлой, добрый вояка с тебя не сварится». Лейтенант Гуляйвитер был прав отчасти, потому что Коля Чернышев бывал, если припирало, и твердым, и злым до беспощадности, всяким бывал. И вояка из него все-таки вылупился: до комбата, до капитана дотянул. Так что рука бы не дрогнула!
— Знаешь, Коля… — Еле уловимым, небрежным движением Аня поправила платочек. — Знаешь, я ведь скрытная, мало с кем делюсь. А с тобой поделилась.
— Спасибо, — сказал Чернышев.
— За что спасибо-то? Доверилась тебе, почему, не ведаю. Но вроде легче стало.
Чернышев не нашел ничего другого, как повторить:
— Спасибо.
И сконфуженно потупился. Надо б было что-то сказать хорошее, душевное, но слов — черт-ма! Засосало, запело в кишках, Чернышев поспешно закашлялся. И чего он целый день голодал, чудак человек? В некоем журнальчике вычитал, что при голодании мыслительные способности возрастают, человек умнеет, наукой доказано. А Колей Чернышевым доказано: глупеет.
Они отмерили еще шагов пятьдесят, и Аня сказала:
— До дому, до хаты! Поворачиваем оглобли, Коля…
Он покорно кивнул, но куда поворачивать, в какую сторону, боевой комбат, бравый капитан понятия не имел, ибо за дорогой не следил. Аня Кравцова запомнила дорогу: овражком, соснячком, песчаным скосом, кустарничком да ельничком, по опушке, по опушке — к проселку, а там уж и дым отечества, медсанбат со своими специфическими ароматами и незамаскированными огоньками в окнах.
Было довольно безлюдно. У Аниного домика они помешкали. В жизни не целовавший женщинам руки, Чернышев взял своей лапой ее ладошку и прижал к губам. И, пока он наклонялся, Аня поцеловала его в затылок, чего тоже отродясь не делала. Постояли, переминаясь, оба растерянные, нерешительные, потом она взбежала на крыльцо, махнула платочком:
— До завтра.
— До завтра, — шепотом ответил он и стал нашаривать в кармане халата пачку папирос-патрончиков, трофейную зажигалку. Курнуть — иначе помрет. Рука сильно дрожала, коленки — тоже. Обжигаясь, докурил до ногтей, тут же вытащил вторую папиросу, изловчась, прикурил от первой. Втоптав окурок в песок, начал затягиваться сильней, чем прежде, — с хлюпом, со свистом. С музыкой! Которая может заглушить и марш в кишках.
Он топтался, не уходил к своей палатке. Думал: утром у них было по-иному, легко, шутливо, иронично, просто. У него даже идейка насчет д р у ж б ы возникла. А вечером все было не так, все всерьез, грустно, печально, непросто. Не только оттого, конечно, что она получила мамино письмо. Но и потому, наверное, что оба вдруг переменились, и переиначились их отношения? С чего? Как? А может, он все выдумывает? Высасывает из пальца, целый день не мытого? Фантазирует, как Жюль Верн или там Александр Беляев? Словом, картина непонятная и туманная. А коль так, то рули к палатке: отбой, утро вечера мудренее, как-нибудь разберемся в своих мыслях и чувствах. И здорово бы обрести ясность. А бывает: обрел эту ясность, а за ней, глядь, снова туманная завеса неизвестного, неразгаданного.
Соратники-сопалатники спали, старшой выдувал рулады из внушительных сопелок — закачаешься. И как только лейтенантики дрыхнут? Вот что значит молодой, здоровый сон. Стараясь не звякать соском рукомойника в тамбуре, Чернышев помыл руку, ополоснул лицо, почистил зубным порошком рот. Ступни обтер мокрой тряпочкой — такой гигиенист. Стянул халатик, раскатал кальсоны и в кроватку, баю-бай. Что ни толкуй, это тебе не передовая, где осколки и пули, где спишь нераздетый, в сапогах в окопе, либо под кустиком, и в любую минуту могут обеспокоить не обремененные учтивостью немецкие автоматчики. Это — медсанбатовский рай, почти что госпитальный: простынка, подушечка, одеяльце, не хватает горшка под кроватью, почему обязательно горшок, к вашим услугам и «утка».
Чернышев выключил ручной фонарик, принял блаженную позу отдыхающего счастливчика. В какой-то степени легкораненых, поступающих в санбат, можно назвать счастливчиками. Тяжелораненых так не назовешь. Да они и не задерживались в санбате, их путь в госпитали, в глубокий тыл. Далеко-далече это отсюда, аж в Союзе. По ту сторону государственной границы…
Повозившись и чертыхнувшись, Чернышев хлопнул себя по лбу, включил фонарик, сгреб с тумбочки накопившиеся за день таблетки и облатки, сглотнул их разом, запил тепловатой, затхлой водой из чужого стакана. Тьфу, пакость, но надо же хоть в чем-то проявлять ранбольному дисциплинированность. Вреда от этих лекарств не будет, пользы — тоже.
После квелого лучика карманного фонаря в палатке водрузился пятнистый подрагивающий сумрак: пятна вроде там, где сумеречь погуще, а подрагивает потому, что стали подрагивать потолок и стены — ветер сорвался откуда-то с верхотуры, затаранил брезент. По полу зазмеились холодные сквозняки. Над палаткой — небесные горы, там среди звезд гудели самолеты, стихали и снова гудели — волна за волной шли на задание наши ночные бомбовозы; на шоссе так же гудели, стихали и вновь гудели автомашины — колонна за колонной, на запад, к передовой; на задворках лаяли городские собаки — эти не стихали ни на секунду, крикливо-неугомонные; в тамбуре цвиркал кузнечик, уже ищущий на ночь тепла. Пора, пора: там-сям в березовой, ивовой зелени нет-нет да и сверкнет желтый листик-вещун.
Чернышев, угревшись под одеялом, уснул и враз увидел своего первого б о л ь ш о г о начальника, лейтенанта железнодорожных войск НКВД, которого полностью звали Роман Тарасович Гуляйвитер — в паспорте-то у него значилось Гуляйветер, но себя он величал только так: «Гуляйвитер». Будто Роман Тарасович Гуляйвитер еще живой и говорит таковы слова: «Красноармеец Мыкола Чернышев — справней усех, храбрей усех и смельчей. Быть Миколе генералом! Ну колы не генералом, дак полковником — по усей форме!» И говорит он это перед строем гарнизона, охранявшего мост, — и они все еще живые, слушают и одобряют лейтенанта.






















