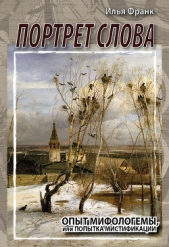Портрет героя

Портрет героя читать книгу онлайн
Автор романа — известный советский художник Мюд Мариевич Мечев. Многое из того, о чем автор повествует в «Портрете героя», лично пережито им. Описываемое время — грозные 1942–1943 годы. Место действия — Москва. Главный персонаж — 15-летний подросток, отец которого репрессирован. Через судьбу его семьи автор показывает широкую картину народной жизни в годы лихолетья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет.
Мы подходим к нашему крыльцу, он снимает дрова с саночек и аккуратно ставит их на ступени.
Этот тихий человек пахнет опилками — приятный запах, напоминающий запах леса.
— Спасибо вам, — говорю я ему. — В хорошем месте вы, наверное, работаете…
— Где они теперь, хорошие места… В мебельной я работаю.
— Разве сейчас есть такие?
— Есть, — тихо и почему-то печально отвечает он.
— А что же вы делаете?
— Гробы, милый.
…Темно. Звезды…
XXIV
Я открываю дверь. На кровати, в высоких подушках, сидит брат. Он в пальто и в меховой шапке с опущенными ушами.
— Мама! Смотри! Дрова! — радостно кричит он.
Мама раздувает пламя в печке. Ее лицо красно и выпачкано сажей. Изо всех щелей печки выползают струйки горького от тлеющей бумаги дыма.
— Почему ты так долго? — спрашивает мама.
— Я покупал дрова.
— Ты мог бы прийти раньше.
— Я не сумел быстро продать вещи.
— У тебя всегда отговорки…
— Не ругай его! — просит брат.
Поднявшись с пола, мама смотрит на три вязанки дров, но лицо ее не становится добрее, и я знаю, почему: она не любит заниматься домашним хозяйством.
Я снимаю пальто, заглядываю в печь: тлеющая бумага забила всю топку — тяги нет. Беру кочергу, проделываю отверстие в черных обуглившихся хлопьях, и листы начинают понемногу загораться. Осторожно ворошу черные куски картона и бумаги, поворачивая их так, чтобы они зажглись, а потом кладу первое полено и бегу открыть дверь в парадное.
Мама и брат смотрят, как лежащее в печи полено охватывает пламя. Я кладу второе и закрываю дверцу.
— Ну неужели нельзя было продать скорее? Я так волновалась!
— Нет, мама. Скорее — трудно. Но смотри, что я принес. Вот! — И я вынимаю из мешочка масло.
Она разворачивает сверток, подносит комок к лицу и нюхает.
— Неужели масло?!
— Да!
Брат хлопает в ладоши.
— Настоящее сливочное масло! Не думал, что во время войны еще делают сливочное масло!
Я лезу за пазуху и вынимаю теплую пачку денег.
— Здесь, — гордо сообщаю я им, — восемьсот девяносто пять рублей!
Мама радостно улыбается — и я совершенно счастлив!
Но… что такое с моим горлом? Как будто железную проволоку вставили в него изнутри! Я даже не могу глотать, и слезы брызгают у меня из глаз.
— Что с тобой?!
— Ничего. Это горло. Оно пройдет… Я лягу.
Я снимаю валенки. Проклятая голова опять кружится! Ложусь на кровать рядом с братом и вдруг слышу мамин возглас:
— Что это?
Через силу поднимаю голову: мама, держа в руках деньги, подходит ко мне.
— Посмотри!
В ее руках я вижу четыре тридцатки и… аккуратно нарезанные по их размеру куски старых облигаций.
— Тебя обманули…
— Не может быть! Дай!
Но проклятые облигации не желают превращаться в деньги! Как были облигациями, так и остаются! Ведь были же деньги! Я вспоминаю хромого… и как он попросил меня дать ему деньги для пересчета… и смех баб, сидящих в санях. И я все понимаю!
— Прости меня, мама!
И тут силы покидают меня.
— Не плачь! — Она кладет мне руку на лоб. — У тебя жар. Спи и не думай ни о чем!
Я отворачиваюсь к стене. Свет коптилки бросает на нее густую тень. Моего лица не видно. Слышно, как мама расставляет чашки на столе.
— Мы будем пить чай? — спрашивает брат.
— Да. И есть хлеб с маслом.
— Я люблю масло. Оно вкусное и полезно для здоровья.
Мама разворачивает вощеную бумагу.
— Дай кусочек! — просит брат.
— Пожалуйста!
И я слышу чмоканье и сопение, чувствую запах морковного чая… Но мое горло как будто сжимает чья-то невидимая ужасная рука.
«Все!» — думаю я и проваливаюсь в темноту.
XXV
В комнате тепло. Я открываю глаза, пытаюсь глотать. Резкая боль заставляет меня согнуть шею и замереть, прижав ноги к животу.
— Ты еще болен? — слышу я голос брата: — Здравствуй!
Я с трудом поворачиваюсь и киваю.
— Ты не говори. Молчи… К тебе скоро придет доктор, а я буду за тобой ухаживать.
Я закрываю глаза и, содрогнувшись от боли, проглотив слюну, проваливаюсь опять в темную, не имеющую ни дна, ни границ, ни названия бездну.
…И так проходит много дней.
Однажды, открыв глаза, я вижу перед собой Славика, с любопытством глядящего на меня.
— В школе большие новости.
«Мне наплевать!»
— Двоечников будут точно отчислять.
«Мне наплевать! Это собираются делать каждый год!»
— Говорят, есть инструкция… ну эта, полусекретная, и всех отчисленных будут посылать в ремесленное училище.
«Мне наплевать!»
— Поговаривают, что Наклонение будет директором, и нашли бандитов, убивших сторожа на фабрике. Один из них был военным!
— Какое сегодня число?
— Двадцать девятое марта.
— Я столько времени болел?!
— Ты болел больше месяца, — отвечает стоящий за спиной Славика брат.
— И что самое интересное, — глаза Славика прямо сверлят меня, — Нюркин сын прячется где-то в нашем районе! А она снята с работы!
«Мне наплевать!»
— Но и это еще не все. Нашего директора видели в церкви!
Я не выдерживаю:
— Ну и что?! Что он — не может зайти в церковь? Она же историческая.
— Ты что, не понимаешь? Видели, как он ставил свечку! Его песенка спета!
— А кто его там видел?
— Наклонение.
— Он и рассказал об этом?
— Да… Очень сочувственно… Он сказал Говорящей Машине, что это, конечно, не выход из положения и что он, хотя и сочувствует его горю…
— Какому горю?
— Директора… Да ты что, не знаешь?!
— О чем?
Славик широко раскрывает глаза.
— Два его сына умерли в госпитале, в Лефортове! В начале марта… И потом… — Он приближает ко мне лицо. — От него ушла жена. Помнишь, та молодая медсестра? Мы видели их в кино… Кудрявая… Он оставил ей квартиру и живет теперь у матери.
Я вспоминаю простое суровое лицо нашего директора… и его кулаки… и рев…
— И что же, он собирается уходить?
Славик пожимает плечами:
— Его уволят. Ты что, не понимаешь, какое сейчас время?
— Слушай, а ты не был в госпитале?
— Нет, я не хожу туда. Теперь я в агитбригаде, обслуживающей фабрику «Красный Октябрь». Понял?
— Да… Но, может быть, ты проходил мимо и видел инвалида, такого…
— Никого я не видел. Твои инвалиды давно поправились или на тот свет отправились!
— А Большетелов ходит в школу?
— Наверное, ходит.
— А ты видел его?
— Нет. Ну, мне пора, а это — тебе! — И он оставляет на стуле маленький кусочек шоколада, завернутый в блестящую фольгу, на ней написано «Красный Октябрь».
— До свидания, — говорю я, откидываясь на подушку, — спасибо.
Но уснуть я не могу, что-то мешает мне, беспокоит меня… Ах, вот что! Яркий луч солнца пробивается сквозь оттаявшее стекло нашей форточки, расширяясь по мере того, как он отделяется от стекла и, наполненный пылинками, плавающими в нем, пронизывает темноту комнаты. «Вот и весна», — думаю я.
— Вот и весна, — говорит брат, но взор его устремлен на шоколадку.
— Разверни ее, — прошу я, — и раздели на три части: маме, себе и мне.
— Спасибо! — Подойдя ко мне, он растопыривает пальчики. — А руки у меня чистые, — сообщает он.
И я вижу две маленькие ручки, сереющие грязью повыше запястий.
— Это хорошо, что ты моешь руки…
— Как же! — отвечает он. — Ведь мама сказала мне: «Ты же теперь медсестра. И должен ходить за братом!»
— Я сильно болел?
— Очень! И мама часто плакала… Но она уходила для этого в маленькую комнату, чтобы я не знал. Но я знал все! Я не подсматривал, я просто чувствовал… Понимаешь?
— Да, понимаю. А Ваня Большетелов не приходил?
— Нет. Приходил только Аркадий Аркадьевич. И он говорил маме, что она может брать у него денег, но она не захотела. «У нас есть», — сказала она. И еще — Нюрка теперь бедная… Она ходит в церковь и там молится и плачет. А знаешь, почему ты поправился?