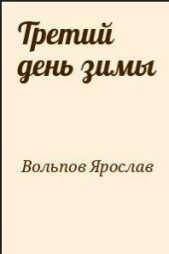Блокадный ноктюрн

Блокадный ноктюрн читать книгу онлайн
Война как она есть. Сквозь годы и километры.
Война никогда не заканчивается. А когда заканчивается... Когда война заканчивается - демобилизованные солдаты едут по домам, если, конечно, эти дома сохранились. Уволенные в запас по ранениям офицеры устраиваются учителями и почтальонами. А генералы садятся за мемуары, пытаясь задним числом понять - как они выиграли или проиграли то или иное сражение. Не исключением будут и два полководца, столкнувшиеся друг с другом на высотах Синявино в августе-сентябре сорок второго года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Кушай, мамочка! Кушай!
Но мама упрямо не хотела брать хлеб из рук дочери.
«Какая же я дура!» — сердито и отчаянно подумала Вика. «Она же спит! А раз спит, она же не может жевать!»
Вика откусила еще кусочек и начала жевать промерзлый хлеб. Не удержалась и проглотила жидкую кашицу, мгновенно провалившуюся в ненасытные глубины тела. Еще раз откусила…
Потом выплюнула — Боже, сколько усилий надо приложить к тому, что бы выплюнуть хлеб! — разжеванную массу в узкую свою ладошку и осторожно поднесла к лицу мамы. Потом тягучей струйкой влила жизнетворящую густоту в ее рот.
После чего свернулась клубком и обняла маму, ткнувшись ей под бочок.
Девочка грызла хлеб, дожидаясь — когда мама проснется.
Девочка грызла хлеб. По потолку метались тени огня, отбрасываемые буржуйкой. Словно немое кино…
Девочка грызла хлеб и слышала, как кипит вода на печке.
Эти звуки, это бульканье преломлялись в ее дремотном, оголодавшем сознании в звуки человеческой речи, в биение сердца мамы.
А тени превращались в лица, в улыбки, в карусели…
— …На карусели будешь кататься?
— Буду! Папа! Купи мне мороженого! Только пломбир не бери, я крем-брюле люблю!
— Куплю, доча, куплю! А мама что у нас хочет?
— Хлебушка бы мне, Витя…
Эти слова грохотом разорвали дремоту.
Вика резко подняла голову.
Печка уже потухла. А мама так и не проснулась. В руке был зажат недогрызенный кусочек хлеба. Жаль, что горбушка не досталась. Корочка — сытнее…
Вика тяжело села на кровати. Машинально откусила еще кусочек. Потом еще один. Потом последний. Потом аккуратно слизала крошки с ладони. Только после этого снова посмотрела на маму. Все-таки она умерла.
Недавно они поссорились. Мама, словно бы в шутку, сказала Вике — «Когда я умру, сними с меня одежду и продай!». Вика от этих слов заплакала и стала кричать на маму. Кричала. Что не надо было Юту отмечать как умершую, что можно было целый месяц жить по ее карточкам. А мама заплакала и сказала вдруг:
— Нельзя наживаться на мертвых!
Потом они обнялись и долго плакали уже вместе, но без слез. На слезы не было сил.
На пальто Юты они смогли выменять кусочек маргарина.
А теперь у Вики есть мамино пальто. Несколько кофт. И даже валенки. А это что? На шее мамы Вика обнаружила веревочку. До войны мама носила цепочку, подаренную на очередную годовщину свадьбы папой. А теперь — веревочку. А на веревочке — кольцо. Обручальное кольцо. Последняя драгоценность. Последнее, что осталось от мамы и папы для Вики.
Мама верила в то, что кольцо надо сохранить. Она не раз говорила Вике:
— Наш папа — летчик. Его сбили за линией фронта и он попал в плен. Когда мы победим — папа вернется домой. Как же он посмотрит на меня, если я его встречу без обручального кольца?
Вика сняла с мамы веревочку. Надела ее на свою шею. Спрятала на своей груди. Потому что пока кольцо с ней, то это значит, что папа — вернется! Он обязательно вернется, если Вика сбережет его. Если она не будет обманывать и наживаться на мертвой маме. Нужно сообщить, что мама умерла, чтобы ее хлеб достался всем, а не только Вике. Иначе папа — не вернется.
Самым трудным оказалось завернуть маму в простынь. Она уже закоченела и руки-ноги не слушались. А у Вики не хватало сил, чтобы запеленать тело. Изрядно устала, когда снимала кофты и штаны. В конце концов, после нескольких перерывов, получилось.
Девочка, тяжело шаркая, вышла в коридор. Взяла санки. Поставила их у кровати. На этих санках они весело катались с горок прошлой зимой. На этих санках они везли Юту несколько дней назад. Теперь вот маму… Теперь надо примотать к ним веревкой белый кокон. А это еще сложнее. Пришлось даже отрезать еще хлеба, чтобы чуть-чуть восстановить силы.
Папа, папа… Где ты, папа? Почему ты так долго не идешь? Почему ты не спас твоих девочек? Юта — умерла. Мама — умерла. Осталась одна Вика. Где же ты, папа?
А хлеб надо взять с собой. Нельзя его оставить здесь. В пустоте и одиночестве.
Санки заскрипели по каменному полу. Как же тяжело одной тащить…
В прошлый раз их спускали вниз, придерживая, что было сил, вдвоем. Теперь Вика одна, а мама тяжелее Юты. На первом же пролете девочка поскользнулась и санки с грохотом полетели вниз, хрустко ударившись мамиными ногами о стенку.
Потом еще один пролет. И еще, и еще…
Вика подтаскивала санки по лестничной площадке, а потом просто сталкивала их вниз. Они скакали на ледяных неровностях и гулкие звуки эхом разлетались по подъезду.
А теперь тоже трудное — выйти во двор. Дверь была на пружине. Мальчишки раньше любили со всей силы оттянуть ее и хлопнуть так, чтобы на верхних этажах было слышно. За это на них все ругались, но особенно дядя Марат. Парадное заколотили еще в октябре. Дядя Марат успел пружину перенести на черный выход.
Вот теперь эта пружина, спасая чуточку тепла, превращалась в целое испытание, когда открываешь дверь с ведром в руках. Или с тяжелыми санками за спиной. Дверь и так задевала нижним краем за наросшую наледь. А тут еще…
Вика открыла дверь и прижалась к ней, с трудом перетягивая санки за порог.
Когда же наконец вытянула маму во двор — долго сидела рядом, тяжело выдыхая морозный пар в январский воздух блокадного Ленинграда.
Теперь уже будет чуточку легче.
Надеть веревку на грудь, чуть наклонится и идти, идти, идти…
Идти придется далеко. Но бросить маму нельзя. Потому что мама бы Вику не бросила. Главное — сделать первый шаг.
Ленинград… Как хорошо, что ты построен на болотах! Как хорошо, что у тебя нет холмов! Как хорошо, что можно тащить санки по ровным как стол твоим улицам! Конечно, хорошо кататься с холмистых ледяных горок… Но ведь на эти холмы еще и подниматься надо.
Под ногами скрипит снег. Веревка впивается в тело. Вика ее пропустила подмышками. И держит, чтобы она не сползала на нежные девичьи холмики. Когда-то она так радовалась, когда начало жечь, начало расти… Она стала превращаться из девочки в женщину. А сейчас она проклинала свою гордую радость. Как же больно, когда обледенелая веревка огненным бичом впивается в нежность. Даже через пальто — больно.
Хорошо, что хоть ежемесячные болезни прекратились. Где-то в средине ноября они были последний раз.
У тела не было сил истекать кровью. Оно — мудрое и красивое создание природы — берегло себя для жизни.
Когда-то Вика испугалась испачканных трусиков, как пугается этого любая девочка, превратившаяся в одночасье в девушку. Мама научила ее не бояться крови — неизбежной спутницы жизни и смерти. «Просто ты так плачешь!» оказалось, что женщины плачут кровью, когда хотят дать жизнь. Мужчины же кровью не умеют плакать. Они ей истекают, когда отнимают жизнь у других или у себя. Такой вот диалектический материализм…
А город пуст.
Скрипит лед на улице Марата. И этот скрип волнами отражается от старинных домов Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда… Города белых ночей и сумеречных дней.
Город сумраков… Сумраков, которые развеивали фонарями и витринами, смехом и праздниками. До войны этот город был мечтой и праздником. Стал — фронтом и могилой.
Окна слепо щурятся пожелтевшими бумажными крестами. Ветер, вечный балтийский ветер выдувает снежными сугробами из подворотен. Дома словно склонились над улицами, пытаясь закрыть своими телами теплящуюся человеческую жизнь.
Не слышно собак. Кошки не шныряют по своим делам. Голуби больше не украшают памятники.
Только шаркание человеческих ног по заледенелым мостовым — ширк, ширк, ширк…
Это ленинградцы спешат на работу, едва переставляя опухшие ноги. Они идут в библиотеки и музеи, хватаясь за промерзлые стены домов. Они стоят в очередях, слушают черные тарелки, они везут своих мертвых на гигантские кладбища. Еле заметный пульс метронома настойчиво летит сквозь чудовищно морозную зиму:
— Так… Так… Так… Так…
Так — жив странный город. Несмотря ни на что. Он жив. Искры жизни медленно передвигаются по его мостам и проспектам, сталкиваясь на узких тропках, падая в огромные сугробы, падая и поднимаясь. И страшные слова отсчитывают каждый шаг этих людей: