Нас время учило
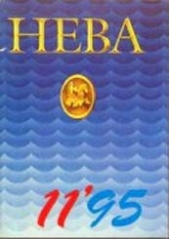
Нас время учило читать книгу онлайн
Документальная повесть была написана в 1960-х и пролежала в ящике стола 30 лет. Опубликована в журнале «Нева» в двух номерах («11» и «12») 1995 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну дела! — говорит он. — Думал — все! К рыбам! Главное дело — бежать некуда. Ну куда с ней побежишь — с малой берцовой!
Я поворачиваю голову направо. Тихо лежит другой сосед. Бинты в коричневых пятнах покрывают его лицо. Нижняя часть лица открыта и неподвижна. Муха ползет по открытому рту.
— Эй, матрос!
— Чего тебе?
— Посмотри соседа.
Матрос наклоняется, трогает лицо раненого, потом встает.
— Готов. Жуков! А ну, иди сюда!
Два человека уносят носилки. Справа от меня пустота.
Санитарный поезд
Железная дорога. Гудки паровозов. Нас грузят в санитарный поезд. Я лежу на верхней полке и с интересом и удивлением изучаю непривычную обстановку. Все внутри вагона белое: белые стены, белые полки, белые стойки между ними упираются в белый потолок. Моя полка с бортом, чтобы не вывалиться ночью, справа на стенке укреплена подвижная полукруглая полочка, на которую ставят тарелки с едой. Справа от меня — верхняя часть окна, через которую, скосив глаз и вывернув шею, я вижу убегающие зеленые поля, россыпи темных домиков и светлую полоску неба.
Вагон живет уже привычным больничным бытом, я слышу обрывки разговоров, бряканье ложек, стоны, оханья, храп. Весь вагон — лежачий, и у персонала много забот. Носятся сестры с пилюлями, шприцами и клизмами, проводится умывание больных. Многие умываться сами не могут, поэтому нянечка, дважды погладив меня мокрой ладонью по лицу и сунув мне полотенце, спешит к следующей полке.
Хлопают железные входные двери, внизу происходит какая-то возня, кажется, вносят носилки с новыми ранеными. Обычное дело.
Однако что-то новое появляется в шуме, нарастает какой-то иной, угрожающий оттенок.
Шум усиливается, и я слышу сквозь него отдельные выкрики:
— Чего? Финнов?
— Финнов ложут!
— С нами рядом?
— Братва! Что же это делается? Финнов кладут! Убить их, б… сразу!
— Суки, в гроб… Выкинуть их в окошки! Перестрелять!
Тонкий и высокий женский голос прорывается в общем шуме:
— Ребята! Так они же раненые! — и тут же тонет в общем яростном реве: — Бей фашистов! Гады! Они нас убивали! Бей их, сук! Тарелками закидаем! Эх, не встать, я бы…
Слышен стук бросаемых костылей и звон разбитых тарелок. Подхваченный общим психозом, я тоже что-то ору. Моя боль, моя мука рвется из меня дикими и бессвязными выкриками, сосредоточившись, сконцентрировавшись на одной мысли: там, внизу, лежат те самые, из-за которых все это — кровь, раны, «самолет»…
Финнов выносят, и вагон не сразу, постепенно, успокаивается, затихает.
Я лежу, упершись глазами в потолок.
После нервного срыва почему-то усилились боли. На душе тяжело и гадко…
Конечно, мы правы, что вышибли их из вагона…
Но ведь они тоже раненые… И лежат с такими же «самолетами»…
В щели окошка убегающие зеленые поля. И светлая полоска неба.
Куда нас везут?
Котельнич
Мы лежим в обширном светлом, залитом солнцем коридоре. Длинный ряд кроватей с ранеными. Кровати спарены, чтобы втиснуть в коридор наибольшее количество коек.
Мой сосед, разбитной парень из Ростова, — бритая голова, оттопыренные уши, рот до ушей, не закрывающийся ни на минуту. На нижней рубахе болтается медаль «За отвагу».
— Мишка! Зачем медаль повесил?
— Эта медаль не простая, особая, ни у кого такой нет, — охотно поясняет он. — Ты глянь, — он наклоняется надо мной, — она мне жисть спасла!
Медаль действительно особая, она покорежена и изогнута.
— Вишь, пуля-то прямо в нее и вдарила, да и срикошетила в плечо. Плечо пробила, да уже сила не та, не навылет. Пулю вынули, на груди гематома… Что такое? Ну, синячище, с два кулака, гляди, во какой, а было еще боле… А если бы не медаль…
Он тараторит дальше, а я уже не слушаю его, так как с удивлением рассматриваю толстого белого червя, которого я снял с шеи. Откуда здесь черви? Что за чудеса? Что-то шевелится под гипсом у горла, я запускаю туда пальцы и с ужасом достаю второго червя, третьего…
Что это? Откуда? Я что — уже заживо гнию?..
Я мечусь по койке и кричу няньку, сестру, доктора, кого-нибудь…
Мишка оторопело смотрит на меня, потом срывается с места и скоро приводит нашего доктора Евдокию Ильиничну Сушко.
Красивая седая голова склоняется надо мной.
— Что с вами? Почему вы звали?
С дрожью и отвращением я объясняю.
— Не волнуйтесь, — говорит Евдокия Ильинична, — это не страшно, черви у многих, они заводятся под длительными гипсами. Потерпите. Сегодня будем вас смотреть, избавим нас и от гипса, и от червей.
Она похлопывает меня по щеке, и у меня от тепла ее руки, уверенного тона и доброго взгляда сразу легчает на душе. Я в надежных и умелых руках.
— Ты, парень, червяка не бойсь, — говорит мой сосед слева, пожилой усатый солдат, — червяк, он пользительный — он гной ест…
Операционная. Трещит гипс под ножницами в руках ведущего хирурга Николая Николаевича. Евдокия Ильинична держит мое лицо в ладонях и приговаривает:
— Потерпите… Уже немного осталось… Потерпите, голубчик… Сейчас, сейчас…
Металлический звук инструментов, ударяемых о стерилизатор, приглушенные возгласы врачей, склонившихся надо мной, глаза между белизной шапок и масок, я корячусь от боли, задавливая крик… Стук гипса о кафельный пол, и тяжелый запах заполняет операционную…
Меня уносят в палату, Евдокия Ильинична садится рядом. Звучит ее ровный и, как мне кажется, нарочито спокойный голос:
— Мы, начальник отделения, ведущий хирург и я, провели осмотр и чистку раны. Положение тяжелое. Сустав практически отсутствует. Общее решение: необходима ампутация.
— Ампутация?.. А как же я… А если не резать? Тогда что?
— Без вашего согласия ампутацию производить не будем. Можно попробовать спасти руку… Но шансов почти никаких. К тому же может начаться гангрена. И тогда мы ничего не гарантируем…
— А при ампутации?
— Гарантируем жизнь. Операция завтра утром. Решайте.
Всю ночь меня душат слезы.
Утром я решаюсь.
Солнечный луч начертил светлые квадраты на противоположной стене. Медленно поворачиваю голову. Палата еще спит, и только около стола подметает пол вчерашняя старушка в белом халате. Что-то располагающее во всем ее облике: в усталом и добром лице, небольшой аккуратной фигуре, больших крестьянских руках и окающем напевном говоре. Глядя на нее, я вспоминаю детство, дачу под Лугой, Мирево, далекое, забытое, солнечное. Бор с седым мхом, синее озеро и ручеек с незабудками. Папа уплывает далеко, на середину озера, там машет прощально рукой и исчезает с поверхности. Мама зовет его, волнуется и бегает по берегу. Через пару минут папина голова появляется снова, голова фыркает и улыбается, а мама в изнеможении садится на траву:
— Всю душу он у меня выматывает!
Пахнет соснами и свежестью. Мокрый папа хватает меня на руки, заносит подальше от берега и окунает с головой. Я реву. Вода попала в уши, нос, рот, а папа смеется: учись нырять!
Почему это все всплыло при взгляде на эту старушку? То ли она напоминает мне миревских крестьян, то ли мою няню Ксению, а скорее всего, она как-то вобрала в себя и лес, и озеро, и крестьянскую повадку, и ласковость старых русских женщин. Да и потом еще этот сон…
— Няня! — говорю я. — Вы сны умеете разгадывать?
Она перестает мести.
— Что за сон, родимой?
Мне приснилась полная плошка земляники с черникой, и все это в молоке. К чему это? Я задаю вопрос, не надеясь получить объяснение, мне просто приятно слышать ее напевный голос. Однако она задумывается.
— Это хороший сон, — говорит она уверенно, опершись на швабру. — Молоко — это прибыль. Красна ягода — радость. Черна ягода — грусть. Будет у тебя прибыль и радость, с грустью смешанная.
— Как это так?
— А так и будет. Вот помяни мое слово!

























