Вот кончится война...

Вот кончится война... читать книгу онлайн
Эта книга о войне, о солдатах переднего края, ближнего боя, окопа, о спешно обученных крестьянских детях, выносливых и терпеливых, не всегда сытых, победивших врага, перед которым трепетали народы Европы.
Эта книга о любви, отнятой войной у чистых юных душ. Мирное время, пришедшее на смену военным будням, порой оказывается для героев труднее самой войны.
Все произведения Анатолия Генатулина глубоко автобиографичны и искренни. Автор пишет только о том, что довелось пережить ему самому – фронтовику, призванному в армию в 1943 году и с боями дошедшему до Эльбы в победном 1945.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Улицы были пустынны. С окон и балконов домов на всех этажах свисали белые полотнища. В пугливую тишину мощенных серой брусчаткой узких улиц шум нашего движения – цокот подков сотен коней – ворвался грозным гулом светопреставления. Но город был живой. В прохладном воздухе майского утра умиротворяюще пахло свежеиспеченным хлебом, значит, работала пекарня. Да вряд ли спали в этот час жители города. Мы знали, чувствовали: из окон, из-за занавесок и штор на нас украдкой глядели сотни и даже тысячи глаз.
Наконец в центре города на площади увидели цивильных немцев. Пожарные и не очень молодые мужчины в шляпах тушили пожар. Уже почти потушили. Только два окна на третьем этаже все еще курились синеватым дымом. Немцы сняли шляпы, кепки и поклонились нам, вернее, нашим офицерам, плешивыми головами. Мы чувствовали себя победителями, лихими кавалеристами, казаками, с мальчишеской гордостью приосанились в седлах, потрагивали бока наших коней шпорами, чтобы они приплясывали, курящие закурили трофейные сигареты. Потом была команда «запевай!». «Из-за острова на стрежень, на простор седой волны», – начал сержант Андреев (каким сереньким казался его голос после Володьки Куренного, который лежит там у дороги в земле!). «Выплывают расписные Стеньки Разина челны», – подхватили мы свою любимую. И всем эскадроном грохнули удалой припев:
Топится, топится в огороде баня,
Женится, женится мой миленок Ваня.
У дверей одного дома, где на первом этаже была какая-то лавчонка, одиноко стоял огромный, очень толстый немец, такой толстый, с таким большим животом, с таким мясистым лицом и с такой жирной шеей, что я сразу решил, что это буржуй. Помещиков, и польских и немецких, я уже повидал, а вот городского буржуя видел впервые. Вероятно, это был всего лишь очень толстый немец, возможно, даже не хозяин этой лавчонки, если и хозяин, то не очень богатый, но мне он виделся буржуем, богатеем, эксплуататором, каких рисовали у нас на плакатах, в газетах. Только цилиндра не было на этом буржуе, голова у него была лысая, голая. Проезжая мимо толстяка, мы все оживились, а он стоял и смотрел на нас спокойно, видно, не понимая, над чем мы смеемся или, может, догадываясь, что смеемся мы именно над тем, что он так толст.
Проехав через весь город, мы выбрались на окраину и остановились возле длинных одноэтажных бетонных строений за колючей проволокой. Солдатские казармы или, может, лагерные бараки. Возле бараков всюду шелестели под ногами, шуршали по асфальту какие-то бумаги, видно, штабные, газеты, обрывки журналов с рисунками, мордами фашистских генералов и голыми бабами. В бараках на двухэтажных, устланных соломой нарах, в проходе – всюду валялись порожние винные бутылки, банки из-под сгущенного молока, попадались солдатские каски и железные коробки противогазов. Значит, только вчера здесь, на этой соломе, валялись, жрали, били вшей и напивались от обреченности фашистские вояки – уже не армия, а сброд, бросающий оружие, грабящий магазины. Казалось, что даже их запах не выветрился здесь, запах врага, чуждый, тревожащий, как запах зверя в логове.
Кухня наша и обозы еще не подошли. Командиры куда-то запропастились. Никаких команд, никаких распоряжений. Честно говоря, в это ясное майское утро у меня, у нас не было никаких желаний, кроме желания лечь на землю возле своих коней и поспать. Потому как не спали уже вторую ночь. Поднявшееся солнце сильно стало припекать, и мы, разморенные майским ласковым теплом, расселись на соломе у стен бараков, одни курили, лениво переговаривались, другие дремали, прислонившись к стене, третьи легли и тут же заснули, особенно молодежь, которая труднее переносила бессонные ночи. Я тоже лег, намотав на руку повод, и тут же заснул – ни войны, ни усталости, ни тревог, ни мыслей, и даже сны не снились. Потом кто-то меня долго тормошил.
– Толя, проснись, – далекий и ненужный голос Баулина. – Толя, вставай.
– Чего?
– Вставай, надо идти.
– Куда? – мычал я, ленясь открывать глаза.
– Зинаиду будем искать. Говорят, в городе много русских баб, в общежитиях живут. На фабрике работали. Старший лейтенант отпустил. Я один хотел идти, но говорит: бери напарника. Оно и верно. Одному нельзя.
Если Зинаиду, тогда придется идти, к тому же, как я понял, это приказ. Я приподнялся, сонно поглядел на Баулина и, постепенно возвращаясь к яви, увидел его встревоженное лицо, глаза; в глазах его, казалось, то загоралась надежда, то угрюмой тьмой набегала безнадежность.
– Проснулся? Ну и ладно, ну и хорошо, – ласково проговорил он. – Диски оставь, бери только карабин. Ребята, мы пошли. Андреев, если чего, сумку с дисками не забывайте.
– Давай, Петрович, возвращайся сюда с женой, – пожелал нам вслед сержант Андреев.
Честно говоря, я ни чуточки не верил, что Баулин найдет в этом городе жену. После такой войны где-то в центре Германии найти женщину из маленькой брянской деревеньки, найти песчинку среди миллионов песчинок – это было бы, конечно, чудом.
Мы зашагали к городу, вошли в город. Два «копытника», один рослый, другой маленький, один русский, другой башкир, два солдата в шинелях, в пилотках, в сапогах со шпорами шли по немецкому городу. Я нес на плече карабин с замкнутым штыком, а у Баулина привычно висел на спине «Дегтярев» с полным диском. Сонливость мою согнало быстрой ходьбой – я едва поспевал за длинноногим Баулиным – и утренней свежестью. На улицах, которые давеча были пустынными, уже сделалось тесно от солдат, повозок, машин и танков. Уже в домах расположились какие-то тыловые части и хозяйства. На перекрестке хорошенькая, бедовая регулировщица щеголевато поигрывала флажками. По тротуарам, поглядывая на нас с любопытством и опаской, шли редкие жители. Около группки солдат возле машины с орудием крутились мальчишки в мятых кепках и коротких штанишках, просили у солдат закурить и, подобострастно любопытные, учились крепкой солдатской речи.
Город, наверное, ждал возмездия и гибели. Но гибель не пришла, только мир перевернулся: то, что вчера считалось важным, считалось жизнью, верой, властью, сегодня стало прахом. Может, многие цивильные немцы даже испытывали облегчение – уже это случилось, русские в городе, и уже позади кошмарное ожидание страшного. Начиналось что-то новое, неведомое. Никто не знал, что будет дальше. Но город присматривался и уже осторожно приспосабливался к этому новому. Страх сменился надеждой.
До сих пор я видел только города-кладбища или города-крепости, дымящие руинами, покинутые жизнью и грозящие смертью. А в этом городе, почти не тронутом войной, согретом тихим весенним солнцем, ютилась жизнь и не стреляли из окон. И здесь я уже другими глазами смотрел, с другими чувствами видел давно примелькавшиеся островерхие дома, красные, серые, желтые, крытые черепицей, брусчатые улицы, чугунные изгороди, подстриженные, пахнущие молодой листвой деревца в скверах; я заглядывал в окна, с которых свисали белые полотнища, ротозейничал у витрин магазинов. Из витрин на меня глядели раздетые манекены, то есть бабы из папье-маше телесного цвета, у манекенов были длинные шеи, нарисованные большие глаза, ярко-красные губы и розовые груди. Только того, что ниже талии, куда мужские глаза невольно сами опускаются, не было у них. Я отставал от Баулина, а он оглядывался и покрикивал негромко:
– Толя, не отставай.
Я догонял, мы шагали вместе, и я, хмельной от весны, от своей молодости, от молодого ощущения жизни и от гордости, что я победителем разгуливаю в этом немецком городе в центре Германии, хмельной от впечатлений, начинал говорить, говорить обо всем. Но Баулин молчал. Я понимал, что он весь напряжен, измучен безнадежностью и надеждой, ожиданием невозможного, и тоже замолкал. И чем дальше мы шли по городу, тем меньше я верил, что в этих каменных дебрях далекого немецкого города мы действительно найдем живыми жену Баулина Зинаиду с ее пятилетним сынишкой. Надо было спросить, где этот самый дом, в котором живут русские – наверное, дом этот был где-то на окраине, – но солдаты, у которых мы спрашивали, ясное дело, ничего не знали, да откуда им знать? Баулин говорил, что, может, встретим русских, должны же они знать, что вошли в город наши и выйти на улицу. Но русские пока нам не встречались, а спросить цивильных немцев мы почему-то не решались, то ли потому, что толком не знали языка, то ли наша солдатская, кавалерийская гордость не позволяла обращаться к немцам. Наконец я решился и остановил пожилого немца. Он снял шляпу, обнажив голый желтый череп, побледнел и заискивающе заулыбался.

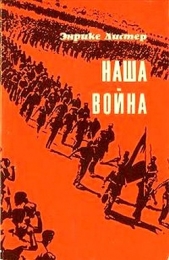
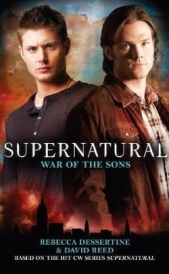


![Архимаг. Колдовская война [трилогия]](/uploads/posts/books/6658/6658.jpg)




















