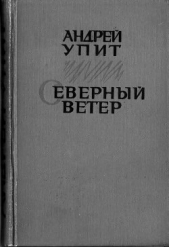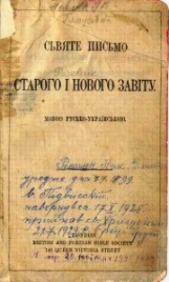Волга рождается в Европе (ЛП)

Волга рождается в Европе (ЛП) читать книгу онлайн
Только немного произведений мировой литературы после Второй мировой войны вызвали такую сенсацию как «Шкура» и «Капут» Курцио Малапарте. Из-за его политических и литературных авантюр Малапарте в период между мировыми войнами подвергался очень жесткой критике со стороны фашистских правителей. Ему даже неоднократно доводилось оказываться в тюрьме. И во время Второй мировой войны, в которой он частично участвовал как фронтовой корреспондент миланской газеты «Corriere della Sera» («Вечерний курьер»), его тоже подвергали наказаниям.Курцио Малапарте (1898-1957) относится к тем писателям современной итальянской литературы, которые вызывали множество споров. Он обладал блестящими стилистическими способностями, отразившимися в его творчестве, которое является картиной морально заболевшего общества старой Европы.До сих пор в издательстве «Штальберг» на немецком языке вышли следующие книги этого автора: «Шкура», «Капут», «Кровь», «Разрушение», «Проклятые тосканцы», «Проклятые итальянцы», «В России и Китае».«Волга рождается в Европе» содержит несокращенные свидетельства Малапарте о его пребывании на Украинском фронте и во время блокады Ленинграда. Помимо чисто военных описаний на передний план выходит общественно-социологическое рассмотрение: конфронтация двух механизированных рабочих армий. Изо дня в день Малапарте сразу после маршей, боев и наблюдений записывал свои репортажи и заметки для публики, которая хотела получать новости с фронта. Впервые тут представлен полный текст; отрывки, которые были вычеркнуты во время войны фашистской цензурой, снова включены в книжное издание. Эта книга является документом того времени, и она произведет самое глубокое впечатление на каждого, был ли он солдатом на той войне или нет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда мы сегодня утром говорили об этих молодых советских пленных, один финский солдат сказал: – Это падшие дети. Это прекрасное и печальное слово исходило из уст не ветерана Зимней войны, а семнадцатилетнего мальчика, одного из многих солдат в форме лыжника с зелеными петлицами под белым маскхалатом, с кинжалом, «Puukko», на ремне, одного из тех многих детей-солдат, с безбородым лицом и нерешительным взглядом (хотя что-то решительное, жесткое лежит все же в этих глазах), которые долгие месяцы борются на самом переднем крае, от лесов у Белого моря до траншей позиций под Ленинградом. «Падшие дети». Одно только это слово помогло бы осознать, с каким пониманием и с каким чувством ответственности (а также с какой ожесточенностью) эта ставшая совершеннолетней финская молодежь оценивает физическое и моральное состояние прошедшей в историческом и социальном плане гораздо более тяжелую проверку и в некотором отношении более несчастной молодежи России. Всякий раз, когда я на позициях, в вырытых в снегу траншеях или в «корсу» встречал этих безбородых юных финнов, их взгляд, их улыбка, их простота, их спортивное равнодушие в опасности, человечность их дисциплины заставляли меня почувствовать все рыцарское благородство, всю моральную чистоту этой финской войны. Это грубая, жесткая, непреклонная война – но чистая война. Еще у смерти есть кое-что примиряющее. Я хотел бы сказать, что ее появление просветляет только самый чистый взгляд на вещи. Там в лесу, перед «корсу», в котором я пишу, находится «лоттола», столовая «Lotta Svärd»; перед дверью две девушки готовятся мыться в чане, полном горячей воды, и иногда из облака пара выныривает голова, чтобы оглядеться, со смехом. Несколько солдат грузят на сани трупы трех русских солдат, вмерзшие в блок льда, как в хрустальный гроб. Их случайно нашли сегодня утром, когда копали маленькую шахту для боеприпасов. Лошадь скачет галопом между деревьями, за ней, крича и махая руками, бежит артиллерист. Девушки смеются, солдаты, которые грузят мертвецов на сани, отворачиваются, смеясь. Неподвижный жест мертвецов в их прозрачном блоке льда ясный, точный, светлый. А также тарахтение советских пулеметов, яростный настойчивый «та-пум» и раскаты тяжелых корабельных орудий советского флота, которые из Кронштадта обстреливают фланг нашей позиции, – и носилки, которые несут четыре солдата на плечах по лесу, раненый на носилках с полностью перевязанным лицом, и смех мальчиков, это для меня почти приятные картины и дружелюбные звуки, глубокая, чистая человечность, случаи и голоса из жизни, которая благодаря высокой рыцарской нравственности преобразилась, поднявшись над настоящим.
21. Запретный город
Под Ленинградом, апрель
Из траншей на участке Валкеасаари, Белоострова русских, на городской окраине советской Александровки, осажденная метрополия представляется моему взгляду как одна из тех точно размеренных гипсовых моделей, какие можно увидеть на градостроительной выставке. Еще и белизна снега заставляет думать о гипсе. Участок фронта, на котором я нахожусь, не всюду плоский, но местами выше равнины, на которой лежит Ленинград. Из своих окопов финские солдаты как с балкона рассматривают бывший царский город. На территории есть пологие параллельные возвышения небольшой высоты. Но и этих немногих метров хватает, чтобы дать глазу свободу, взгляду ширину и глубину.
Отсюда до пригородов Ленинграда по прямой линии всего восемнадцать километров. А оттуда, от передовых постов к северу от Александровки, к которым мы очень скоро поедем, удаление сокращается почти до шестнадцати километров. Возвышенности местности покрыты тут и там немногочисленными деревьями, другие почти голые. Уже на одном метре глубины скудной земли лопата наталкивается на гранит. На некоторых местах гранит даже выходит наружу, он образует скалистый порог высотой от четырех до пяти метров, скрывшись за которым лежат финские укрытия. Между одной и другой такой возвышенностью местность изгибается широкой кривой; на дне этих низин течет покрытый в это время года льдом ручей или собирается солоноватая вода болота, или простирается болотистый луг, из которого над замерзшей поверхностью возвышаются высокие верхушки тростника. В нескольких местах в этих низменностях растут деревья; все же, обычно эта территория голая и открывает взгляду далекий простор белоснежной поверхности.
С места, где мы находимся, то есть, с края одного из этих гранитных порогов на полдороги между лесом, в котором находится командование участка, и линией передовых дозоров, глазу открывается безгранично свободное пространство. Бесконечные леса Карельского перешейка, которые становятся тоньше и реже, чем больше мы приближаемся к пригородам мегаполиса, заканчиваются за нами, между деревнями Майнила и Валкеасаари. Это леса без высоких деревьев, преимущественно березы с их светлой листвой и серебристыми стволами между темной синевой елей. По ту сторону Валкеасаари и Александровки, напротив Ленинграда, как уже говорилась, местность пустая, превращается в открытую, прерванную тут и там жалким кустарником. И в то же время деревни встречаются чаще, превращаются в пригороды, ландшафт постепенно приобретает привычный вид окрестностей большого города.
Между этими деревнями все чаще стоят те загородные домики, которые русские называют «дачами», и в которых раньше петербургская буржуазия обычно проводила лето. Эти дачи представляют собой маленькие деревянные дома, из березы, выкрашенные в голубой, нежно-зеленый или бледно-розовый цвет. Теперь они принадлежат советским «государственным трестам», или профсоюзам или учреждениям социального обеспечения, которые отправляют туда своих членов на отдых или в очередной отпуск, рабочих и функционеров с их семьями. Несколько лет назад я случайно видел своими глазами возвращение группы рабочих с загородной прогулки, которую Ленинградский промышленный трест устроил для них в районе Александровки. Вечером я путешествовал вместе с несколькими друзьями вдоль берега Невы, когда мы увидели, как несколько автобусов, полных молодых парней и девушек, съезжали с моста неподалеку от Петропавловской крепости. Автобусы остановились сразу за Зимним дворцом; туристы вышли из них, с пением и смехом, у девушек в руках были букеты полевых цветов, которые уже увяли от жары и пыли. Это были первые весенние дни, и характерный влажный зной Ленинграда уже становился ощутимым; мужчины несли палки из свежей древесины с резными ручками и березовые ветки. Мы спросили, где они были, и они ответили, что приехали из Александровки в Карелии. Они действительно говорили об Александровке, я помню об этом потому, что я как раз писал биографию Ленина и ходатайствовал в советских органах власти о разрешении на поездку в Александровку, чтобы посмотреть, где Ленин скрывался накануне октябрьского восстания в 1917 году. В разрешении мне отказали, так как Александровка находилась около финской границы, и тем самым в военной зоне, которая была закрыта для иностранцев.
Значит, эти рабочие приходили отсюда, вероятно, с тех же лугов и тех же светлых березовых рощ, где теперь в светлом снегу блестели советские заграждения из колючей проволоки. Я смотрю через амбразуру, я наблюдаю постепенно опускающуюся к Ленинграду равнину. За зоной дач начинается необработанная территория, та «ничейная земля», усеянная мусором и отбросами фабрик, как это типично для близких окрестностей современного крупного города. Для невооруженного глаза перспективы и плоскости укорачиваются, проникают друг в друга как сильфон фотоаппарата, который скрывает детали и различия ландшафта между этими складками. Все же, как только я приближаю глаз к стереотрубе наблюдательного пункта, складки растягиваются, а взгляд проникает сквозь перспективы и плоскости, так сказать, глубоко в промежутки складок и может разведывать территорию, наблюдать ее во всех подробностях. Передо мной, вероятно, на удалении двухсот метров, появляются – настолько близко, что кажется, что их почти можно коснуться – русские сетки из колючей проволоки, ряды блиндажей и траншей, иногда прерывающихся, чтобы оставить свободное поле обстрела цементным бункерам, и зигзагообразная линия траншей. Каждый, кто пережил Первую мировую войну, узнал бы в этом ландшафте один из типичных ландшафтов позиционной войны, которые простирались перед самой передней линией. Война здесь цеплялась за землю, она вернулась к форме и манере позиционной войны. Мне, кажется, что я вернулся на двадцать пять лет назад, я считаю себя помолодевшим на двадцать пять лет. Даже беспрерывный «та-пум» русских передовых дозоров (- Они сегодня немного нервные, – замечает со смехом полковник Лукандер) стали для меня привычным звуком, дружеским голосом. И лежащие между проволочными заграждениями мертвецы, замерзшие трупы, застывшие навсегда в их последнем движении, и советский солдат вон там, стоящий на коленях между колючей проволокой, с лицом, повернутым к нам, лоб в тени покрытой снегом шапки из овечьей шерсти – как часто я уже видел их, сколько лет я уже знаю их? Ничего не изменилось за этих двадцать пять лет: те же декорации, те же звуки, те же запахи, те же движения. Но то, что придает неповторимую ценность этому привычному ландшафту позиционной войны, необычно новый и неожиданный смысл, это задний план, фон, на котором выделяется этот ландшафт. Это, в отличие от другой войны, уже не фон из голых, разрубленных взрывами высот, похожих на скелеты расстрелянных деревьев, разорванных снарядами и во всех направлениях изборожденных лабиринтом траншей равнин, руин одиноких домов на пустых полях и пашнях, засеянных касками, разбитыми винтовками, рюкзаками, пулеметными лентами: обычный печальный и монотонный фон, который был виден по ту сторону передовой линии на всех фронтах Первой мировой войны. Здесь открывается задний план фабрик, домов, улиц пригородов, задний план, который при взгляде в бинокль похож на огромную, гигантскую стену белых фасадов из цемента и стекла, похож на гигантский закрывающий горизонт слой пакового льда (погребенная под снегом равнина внушает этот образ). Один из самых больших и самых многолюдных городов мира, один из современных мегаполисов лежит там и образует фон этого поля сражения. Ландшафт, в котором самые существенные элементы были созданы не природой, не поле, лес, луг и вода, а произведения человеческих рук: высокие серые стены рабочих домов, испещренные бесчисленными окнами, дымовые трубы фабрик, голые и угловатые цементные и стеклянные блоки, стальные мосты, гигантские краны, газовые котлы и огромные трапеции высоковольтных линий. Ландшафт, который создан для того, чтобы представить истинную картину, сущностную, скрытую картину, мне хотелось бы сказать: рентгенограмму этой войны, во всех ее технических, промышленных, социальных элементах, во всем современном значении войны моторов, технической и социальной войны. Жесткий, плотный ландшафт, гладкий как стена. Как стена, окружающая огромную фабрику. И эта картина не покажется произвольной тому, кто вспомнит, что Ленинград, бывшая столица русских царей, столица коммунистической октябрьской революции 1917 года, это сегодня самый большой промышленный город СССР, один из самых больших промышленных городов мира.