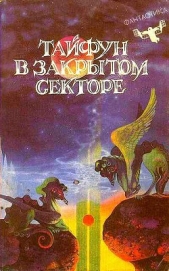Одолень-трава

Одолень-трава читать книгу онлайн
В повести рассказывается о сложных человеческих отношениях людей в период гражданской войны на Урале.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ничего не поделаешь, Сеня, — сказал Юлий Васильевич, — с пролетарским происхождением придется тебе расстаться.
— Сплетням не верю.
Юлий Васильевич нерешительно покашлял и стал рассказывать, как познакомился с дочерью Сафрона Пантелеевича, сельского торговца. Рассказывал спокойно. Перебирал в памяти прошлое, излагал факты без гнева и пристрастия, только сдувал с них лирическую пыль.
— В те годы мы искренне верили, что дулебы и вятичи — соль соли земли. Богатые обречены историей на пустую и преступно-порочную жизнь. Генеральские дочки, молодые священники, студенты, врачи и звездочеты мечтали раствориться в дулебах и вятичах. И я, грешный человек, мечтал об этом. Благо, и случай представился — Саша полюбила меня. Разумеется, без книжек не обошлось. Молодость не логична. Мечтая о родстве с дулебами, как о спасении, в то же время старался облагородить их дочь. Саша в опрощение мое не верила, ученых книжек не читала. Она хотела стать барыней.
Семен сказал, что оговорить можно любого, если подлецом быть, совести не иметь.
Юлий Васильевич обиделся, хотел встать, рванулся и застонал от бессильной злобы и унижения.
— Бодливой корове бог рога не дает! — смеялся Семен над ним.
А он вертелся под мерзким тулупом, кричал, что забеременела и родила Александра до свадьбы. Семен что-то говорил ему. Он не слушал — будьте любезны, кричал, будьте любезны, июнь, господа, лето, травы некошеные, девица упрямо и бессовестно лезет, девица хочеть стать барыней…
— Не надо, — просил Семен, — не надо про мамку!
Но Юлий Васильевич остановиться уже не мог. Кто устоит, кричал, трепет и страсть, молодое тело, будьте любезны, будьте любезны…
Семен тоненько, по-детски, плакал и твердил, что про мамку нельзя, мамка хорошая.
Обессилев от собственного крика, Юлий Васильевич замолчал, заерзал по войлоку, забиваясь с головой под овчинный тулуп, как в нору. В норе пытался ужаться, стать маленьким, незаметным, сердился на свои длинные ноги и ругал того, другого, живущего в нем, который вел себя гадко и непристойно. Слушая горький горячий ребячий плач, он плотнее прижимался к нарам и, страшась за себя, за свой мозг, стал вспоминать последние, подписанные им циркуляры о бесцельной и убыточной сдирке мохового и травяного покрова на мокрых неудобных участках. Нашептывая под тулуп циркуляры, не переставая думал — что же теперь будет? Как подступиться к Семену? Сдаться на милость победителя он не мог, поскольку победителя не было. Никто не мог гарантировать ему жизнь. Никто, кроме сына! Неужели поздно, и Семен ничего не простит, ничему не поверит? Но ведь прошлое, любое прошлое уходит безвозвратно, как бы умирает, становится небытием, его нельзя ставить в ряд с настоящим, как холод с теплом, смерть с жизнью…
Семен начал говорить первый, просто и без ругани; сказал, что заревел от обиды.
Юлий Васильевич вздохнул с облегчением, выполз из-под тулупа, стал извиняться.
— Постой, ваше благородие, хотел я, сознаюсь, нож тебе бросить. Думаю, тятькин знакомый, к белым, может, и не убежит.
Ну, конечно же…
— Подожди, сказано. Сволочь! Задавил, думаешь, парня. Сиротой сделал. Все отняли, гады! Не отдам тятьку, слышишь! Сам погину, и ты сдохнешь.
Семен помолчал, собрался с силами и сказал твердо:
— Сдохнешь, гад! Точно говорю!
— А ты! Ты! — закричал Юлий Васильевич, порываясь подняться.
— Ишь, затопырхался! Я жить буду. Восьмые сутки идут, а на десятые Матвей Филиппович заявится, ротный командир, в тыл пойдет он с ребятами…
Уставший от страха, измученный тщетными усилиями, он не верил Семену и не слушал его. Он с ужасом думал о смерти, мучительной, безобразной, и уточнял по привычке, что красивой смерти не бывает, иллюзии живых не в счет. Ненавидя смерть всей жизнью своей и памятью, он искал от нее спасения, до боли напрягал свой мозг. Порывался встать с проклятых нар, уйти, спрятаться. От бессилия кусал остервенело тулуп, в воспаленном мозгу были сплетались с небылицами. То видел отца, подкатывающегося, как мячик, то Семена в мундире чиновника. Искренне удивился, что Семен переехал, живет на потолке и хвастает — дескать, назначен я председателем Всероссийской контрольной палаты по высочайшему повелению.
Юлий Васильевич выплюнул кислую шерсть, лег на спину и понял, что разговаривал с ним не Семен, а отец, потирая руки и радуясь.
— Итак, милейший, — ворковал отец, — итак, приступая к обязанности председателя контрольной палаты, объявляю, что сын мой, Юлий, любит народ на фоне лугов и полей. Пейзаж, так сказать, любит. Живой пейзаж.
Посмеиваясь и воркуя, отец прохаживался но кабинету, тряс полами новенького мундира, а Юлий Васильевич, злорадствуя, ждал: вот появится печальная матушка и тихий священник Волосков, мягкий, как налим.
— И сказал я себе, — забубнил священник, обнимая сконфуженную супругу председателя контрольной палаты, — и сказал я себе, что веселие — благо! И потянулось сердце мое к веселию, как плоть к вину. Мудрый, говорю я, весел, и не надо скорбеть сынам человеческим, пока они живы…
Когда прояснялось сознание, Юлий Васильевич будто просыпался, разглядывал мутный потолок, засаленную матицу. Холод заставлял его двигаться, думать, возиться с тулупом. Но беспомощность приводила в отчаяние, и откуда-то снизу, от живота, поднимался темный страх, тяжелый, как глыба, страх обжигал мозг нестерпимой болью, глушил, подгребал под себя сознание — и опять начинались галлюцинации, ходил на хвосте тихий и мягкий налим, кланялся, скрипел рясой, проповедовал.
— И все, что просили глаза мои, — я имел, и все, что хотело сердце мое, — получал. И, поглядев на труды многих лет, изумился…
Густели тяжелые сумерки. Надвигалась еще одна ночь. Страшная, безнадежно холодная.
Юлий Васильевич не вспоминал о Семене, не окликал его. Забыл, наверное. Когда отступало безумие, старался согреться, ерзал на нарах или корчился под тулупом. Галлюцинации его не пугали, он переставал вздрагивать, когда слушал в самом себе бас священника или грозный окрик эклезиаста. И только удивлялся, что мозг его служит безумию, имитируя жизнь в необъемных, как бумага тонких, но ярких видениях.
Глава четырнадцатая
Большой гривастый волк почуял утро, привстал, упал снова, уткнувшись носом в снег. Нехотя отряхнулся и побрел по утоптанной человеком тропе. Утром стало еще холоднее. Слюна у Серого замерзла и повисла над мордой, как стеклянная борода. Когда он мотал головой, стеклянная борода, шурша, осыпалась. Волк прислушивался, нюхал воздух.
Человек лежал шагах в тридцати от леса, в неглубокой впадине, лежал на боку, наполовину засыпанный снегом.
Перед впадиной Серый уткнулся носом в тропу и, не поднимая лобастой башки, бросился к человеку. Он скакал, повизгивал, тянул человека за окоченевшую руку, долго лизал холодное колючее лицо. Волк почуял смерть человека, завыл, подняв морду к холодному, начинающему светлеть небу. Может быть, Серый оплакивал друга, может быть, выл потому, что был волком, и дикий вой его вырвался из глотки, неосознанный, как сновидения.
По умятому снегу бежали еще три волка. Первой трусила волчица. Подбежав к Серому, она куснула его за шею и, отскочив, ласково осклабилась, завиляла задом. Она приглашала играть. А Серый выл, захлебываясь и всхлипывая. Сконфуженная волчица стала отряхиваться, вылизывать шерсть на груди. Перед ней прыгали и грызлись два молодых волка. Когда волчица, запрокинув красивую голову, завыла, они тоже подняли морды к глухому еще, страшному небу.
Медленно всходило неяркое солнце.
Серый перестал выть, полизал задубевшую руку, уже пахнувшую морозом, и затрусил к лесу. На бегу всхлипывал и потихоньку скулил, но шел уверенно, выбирал прогалины с крепким настом. Набежав на лыжню, он долго принюхивался. Запахи оказались чужими. Он посопел, пофыркал и свернул в сторону, к логу. Спускаясь, оглядывался и беззлобно рычал — семья его отставала. Волчица бежала нехотя, а молодые волки на ходу мышковали.