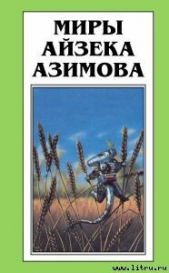Крест и стрела

Крест и стрела читать книгу онлайн
Центральная тема романа — сопротивление фашизму в Германии в годы Второй мировой войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А вот — Руфке, один из заводских парикмахеров, энергичный коротышка; на вид ему лет пятьдесят пять, а на самом деле — под семьдесят. Это тоже любопытно, потому что, когда началась война, Руфке уже пять лет был на пенсии. Если начали брать на работу людей его возраста, это кое о чем говорит.
Да, думал Фриш, сейчас многое можно узнать по возрасту рабочего. Но что у него на сердце — о, это совсем другое дело. Никто не может до конца понять чужую душу. Так всегда было и всегда будет. Но если в прошлом можно было хоть пытаться угадать, чем живет другой, то в сегодняшней Германии всякие попытки проникнуть в душу большинства людей совершенно безнадежны. И это, пожалуй, самый интересный факт.
Вот Пельц, например… его еще можно отчасти разгадать: злой, обиженный, растерянный. Хойзелер — ну, в нем тоже можно кое-что понять. Хойзелер, угрюмый смуглый человек сорока пяти лет, раньше служил коммивояжером в концерне, выпускающем металлические изделия, и был очень недоволен своим теперешним положением пролетария. Хойзелер был искренне убежденным фашистом. Где-то среди волчьих законов своей коммивояжерской жизни, где-то между невинностью первых дней жизни и хищным удовольствием, с которым он теперь читал вслух письма брата, находившегося в отпуске в Афинах, где-то за это время в нем сформировалось человеческое существо, для которого Адольф Гитлер был выразителем воли народа, а не развратителем. Фашистам не было нужды растлевать и насильно обращать в свою веру таких хойзелеров — достаточно было снабдить их удобопонятной философией. Хойзелер был сравнительно ясен: где навоз, там и мухи — и хойзелеры.
Но Эггерт и Вайнер (и Веглер тоже, особенно теперь, когда Фриш знал, что Веглер его предал… Кстати, а где же Веглер?) — вот за кем необычайно интересно наблюдать. Эггерт и Вайнер, совершенно не похожие друг на друга, прибывшие из разных городов, исповедовавшие разные религии и обладавшие совсем разными характерами, были в то же время одинаковы, как близнецы. Оба молчаливы, у обоих вместо лиц застывшие маски и одинаковая нелюбовь к болтовне. Они работают, едят, спят, почти каждое воскресенье напиваются, как свиньи, — и молчат. И в этом была странная, завораживающая типичность для множества мужчин — заводских рабочих в возрасте между сорока и пятьюдесятью пятью: огрубевшие, молчаливые люди, которые едят, спят и, если удается, напиваются по воскресеньям. И никто не может разгадать, какие тайны скрываются в их душах. Остается только подозревать и присматриваться, что постоянно и делал Фриш, принюхиваясь и пробуя на зуб, как хорек, где только можно, — и он не перестанет рыскать, пока им движет этот неутолимый голод.
Из этого можно вывести третье важное заключение. Вызвали всех обитателей барака, но Веглер и Фриц Келлер отсутствуют. Почему? Быть может, с этой отправной точки и следует начать работу?
Фриш пальцами затушил самокрутку, сунув окурок в карман, чтобы потом выпотрошить табак для следующей закурки, и обвел взглядом людей. Комнатка была маленькая, они сидели на скамейках вдоль стен — старик Руфке и молодой Пельц на одной скамье с Фришем; Вайнер, Эггерт и Хойзелер растянулись на скамейке напротив. Все, кроме Эггерта, терпеливо прочищавшего погасшую трубку прутиком, потихоньку выдернутым из заводской метлы, сидели с закрытыми глазами. Но Фриш знал, что они не спят.
— С добрым утром и хорошей погодой вас, — негромко, с мягкой иронией произнес Фриш. — Птички звонко распевают, «стерлинги» убрались восвояси, а репы в этом году уродилось видимо-невидимо. — Он остановился. Один за другим рабочие открывали глаза и глядели на него устало, но с легкой поощрительной улыбкой. У Фриша был настоящий имитаторский талант, доставлявший им немало удовольствия, и Фриш умело пользовался этим когда надо. — Полагаю, нас собрали здесь, чтобы отправить на отдых… — он смешно выпучил глаза, — …в Грецию. Верно?
При всей своей усталости рабочие не могли не засмеяться. Это была пародия на Хойзелера, который вечно читал им вслух письма от брата из Греции.
— Но если дело тут не в чернооких девственницах, которые нас ждут не дождутся, — подмигнул Фриш, — тогда в чем же?
— Нам ничего не сказали, — ответил Пельц. — Наверное, что-то важное. — Он ткнул большим пальцем в сторону соседней комнаты. — Келлер засел там с какой-то важной шишкой. А из барака забрали все пожитки Вилли.
— Вот как? — небрежно бросил Фриш. — Где же сам Вилли? Если дело касается нашего барака, почему же его оставили в покое? Наверное, за какие-то особые заслуги, а?
— Неплохо иметь особые заслуги, — заметил Хойзелер. — Где же, по-вашему, ему быть? — Он зачмокал губами, грубо изображая поцелуи. — У своей бабы — где же еще. Сегодня он и не ночевал в бараке: как видно, это ему премия за полученный крест. — Хойзелер вздохнул. — Она — товар что надо, эта бабенка. Представьте себе только: щупать ее каждую ночь!
— А по воскресеньям и днем, — радостно вставил старый Руфке.
— Зависть берет, глядя на Вилли, — снова вздохнул Хойзелер. — Пока война кончится, пожалуй, совсем свихнешься. Моя старуха спокойно живет себе в Судетах, я спокойно живу здесь, но по мне лучше бы не знать покоя да ночевать в Штеттине, у себя в подвале. В нашем подвале можно неплохо провести времечко. Черт его знает, почему Веглер сумел раздобыть себе тут бабу, а я нет?
Старик Руфке, бывший парикмахер, захихикал. Фриш заранее знал, какого рода шутку он сейчас услышит. Руфке был ближайшим приятелем Беднарика, старшего мастера. У них не было ничего общего, кроме страсти к похабщине, иногда овладевающей людьми на старости лет. Они говорили о женщинах с горячностью подростков, и оба хвастались, что в постели они еще львы. К Руфке, как и к Хойзелеру, Фриш относился с глубочайшим презрением. Руфке был воплощением оголтелого патриотизма и национального чванства; он говорил о превосходстве Германии над всеми другими странами, словно об одной из десяти заповедей. Как солдат, воевавший еще в первую мировую войну и имевший сына-летчика, воюющего сейчас, он уже распределил мир по своему вкусу. Он был главным стратегом в их бараке, вечно возился с раскрашенными картами, был в курсе последних сводок, передаваемых по радио, ликовал, когда сообщалось о победах, и оправдывал поражения.
— Так ведь, — хихикнул он, — разница между тобой и Веглером прямо-таки бросается в глаза, когда вы оба — в чем мать родила. У Вилли, понимаешь, все, как должно быть у нормального мужчины. А у тебя — уж не знаю, что там такое: иной раз кажется, будто пара горошинок, а чаще всего я и вовсе ничего не разгляжу.
Руфке захохотал, щелкая вставными зубами, потом широким жестом выхватил из кармана гребенку и стал причесывать свою красивую седую шевелюру.
Хойзелер, как обычно, не обратил на Руфке никакого внимания, хотя лицо его заметно помрачнело. Он не любил, когда прохаживались на его счет. Только Фришу с его особенным, мягким юмором удавалось заставить Хойзелера принимать эти шутки добродушно.
Фриш, стараясь направить разговор в нужное ему русло, спросил:
— Вы думаете, с Веглером что-нибудь случилось?
Он был сильно взволнован случайно оброненной Пельцом фразой о том, что эсэсовцы унесли из барака вещи Вилли. Этот факт в сочетании с продолжительным отсутствием Веглера наводил на мысль, которую у него не хватало мужества додумать до конца: быть может, Веглер сегодня днем подошел к нему с искренними намерениями… Быть может, он, Фриш, оттолкнул честного человека и тем самым заставил его действовать в одиночку…
Эггерт, посасывая пустую трубку, взглянул на Фриша и равнодушно произнес:
— А что с ним могло случиться? Ты что хочешь сказать?
Фриш ответил не сразу. Он пытливо поглядел ему в лицо.
Эггерт ответил ему вялым взглядом. Он был толстогубый и курносый, с неподвижными голубыми глазами.
— Ну, может, Вилли заболел… или его как-нибудь покалечило.
Эггерт хрюкнул и отвернулся.
«Он хрюкает, — подумал Фриш с усталой горечью. — Он все хрюкает и хрюкает, как свинья, валяющаяся в грязи. Только он совсем не свинья! В этой голове есть мозг, а под этой тупой маской прячется мысль. И ты, Вайнер, ты тоже мастер хрюкать. Эггерт сосет трубку, как ребенок материнскую грудь, а ты ковыряешь в своих огромных ушах, словно деревенский юродивый. Но Эггерт не ребенок, а юродивый не смог бы делать ту работу, которую делаешь ты. Сколько раз по воскресеньям я старался заставить вас обоих раскрыться. Вы нередко напивались, но никогда не проронили ни слова о пайках по карточкам, или потерях на фронтах, или еще о чем-нибудь в этом роде. Война идет блестяще, жизнь прекрасна, все вам нравится! Но я не верю вам, друзья мои! Ваша жизнь далеко не прекрасна, и вы это знаете. Мне надоело ваше хрюканье. Свиньям пора вылезать из грязной лужи!»