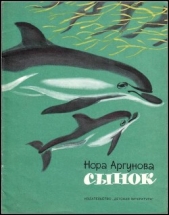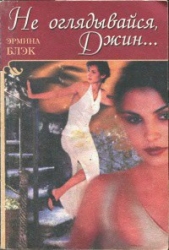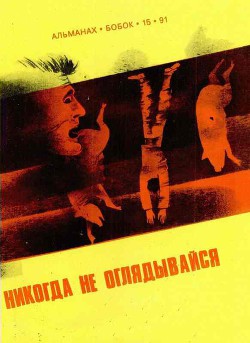Не оглядывайся, сынок

Не оглядывайся, сынок читать книгу онлайн
В 1980 году калининградский писатель Олег Павловский за повесть «Не оглядывайся, сынок» стал лауреатом литературного конкурса имени Фадеева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При воспоминании о немецких блиндажах становится еще холоднее. Пробую приседать, чтоб согреться. Не помогает. Когда же выдадут зимнее обмундирование?
И вдруг я замечаю тусклый желтоватый огонек. Иду на него прямо через лужи, чего уж теперь беречься: больше, чем промок, не промокнешь.
Избенка на отшибе не то села, не то хутора. Низкая, покосившаяся, со слепленными глиной осколками стекла в продолговатом, без створок, окошке. Стучу. Дверь со скрипом отворяется, и меня обдает благостным домашним теплом.
— Один?.. Входи да дверь затворяй поплотнее!
Вид у меня, наверное, плачевный, потому что и старуха, и костлявый дедок, латавший за столом какую-то обувку, почти одновременно всплескивают руками.
— Ох, господи! До нитки, почитай, промок. Раздевайся скоренько да лезь на печь, пока я щи разогрею.
Старуха суетится, дедок встает из-за стола, помогает мне стянуть набрякшие сапоги.
— Все, все скидай, — говорит дедок, — стесняться тут некого. Старуха до утра высушит.
Я залезаю на печь в чем мать родила, дедок накрывает меня овчинным полушубком, и в то же мгновение я проваливаюсь в ночь. Возможно, меня и будили, звали поесть горячих щец, но я ничего не слышал…
— Есть у вас кто из наших?
— Да спит вон солдатик, промок весь вчера…
В избе светло. А мне кажется, что и спал-то я всего-навсего с полчасика.
— Морозов?!
— Я, — отвечаю с печи.
— Трра-та-та-та… — мат пулеметной очередью.
— Вся рота с ног сбилась, тебя ищут.
Не помню, как вскочил, как оделся во все сухое, схватил винтовку, вещмешок и понесся к площади перед сельсоветом, где выстроилась наша рота.
Подбегаю к ротному, прошу разрешения встать в строй.
— Где расчет? — спрашивает ротный.
Он хорошо знает, что расчета, как такового, у меня нет уже несколько дней. Генку и Григорьича ранило одновременно. Генку — в руку, срезало кусок мышцы. Григорьича — в живот. Когда около них разорвался снаряд, Пушкин уполз за минами, а я был метрах в пятнадцати, на своем наблюдательном посту, откуда вел коррекцию огня.
— Где расчет? — повторяет ротный.
Пусть нет Григорьича и Генки, но за Пушкина-то я в ответе. Я скашиваю глаза и вижу в строю его продолговатую, над всеми возвышающуюся голову, но ротному говорю: «Не знаю». Я ведь и верно не знал, где был эту ночь Вася, где была рота. Уж потом мне сказали, что я слишком поторопился нырнуть в свою ложбинку. Вскоре пришел старшина и увел роту в село, в бывшую конюшню, в которой была солома и крыша почти не протекала.
— Трое суток ареста, — говорит ротный. — И наводчиком в третий расчет.
Я повторяю приказ и встаю в строй. От роты осталось немногим более полнокровного взвода. Я чувствую себя преступником и гадаю, куда же меня посадят для отбытия срока наказания. Но пока ротный словно забыл об этом. Мы перестраиваемся порасчетно. До передовой, оказывается, еще порядком.
И снова дорога. Теперь я наводчик и потому тащу минометный ствол и футляр с прицелом. Вьюка у ствола нет, истрепался, и я волоку его на плече, как бревно. С непривычки плечо сразу же начинает ныть. И я говорю себе: «Так тебе и надо, так и надо, не будешь только о себе думать, не будешь сразу падать ничком, как бы ты ни устал, потому что другие, может, устали побольше тебя, а ты, какой ни есть, но командир, даже если и нет у тебя полного расчета». Я ругаю себя самыми последними словами, которые приходят на ум, и тогда мне становится вроде бы легче. Осознание вины все-таки облегчает, хотя и не снимает ее полностью. Ладно, остальное докажем в бою.
Слышатся нечастые разрывы. Значит, шагать осталось недолго. Сворачиваем с дороги в глубокий, изрезанный ручьями овраг. Идти по нему тяжелее, но безопаснее: в прояснившемся небе закружила немецкая «рама» — самолет-разведчик. Заметит — жди через несколько минут «юнкерсов» или «мессершмиттов».
Мне почему-то вспомнилось, как однажды старшина послал меня с Генкой отнести ужин на передовую, где сидел второй взвод, а наш был на двухдневном отдыхе. Дорогу мы знали, неширокая тропка шла таким же вот оврагом, потом огибала холм, овсяное поле, ныряла в ложок и выходила к линии обороны. Генка предложил спрямить. Болтая о том, о сем, мы перевалили изрытый воронками холм, прошли через овсы и, довольные сэкономленным временем, спрыгнули в траншею: «Получай ужин, ребята!»
Командир взвода удивился: не ждали, дескать, так скоро.
— А мы спрямили, — похвалился Генка.
— Через овсы?
— Ага. Ноги-то у нас не казенные — обходить.
— Вот чьи головы у вас на плечах — не знаю. Вы же через минное поле прошли. Только сегодня там двое бойцов подорвались. Немцы не зря овес посеяли и целехоньким оставили для таких вот как вы «храбрецов».
Назад мы с Генкой шли молча, стараясь ни на шаг не свернуть с огибающей поле и холм тропинки.
Я перекладываю ствол с плеча на плечо, пытаюсь нести его под мышкой, но все эти ухищрения напрасны. С каждым пройденным метром он становится тяжелее и тяжелее. Только бы не отстать, не оконфузиться перед ротным и солдатами.
Когда мне кажется, что еще немного и я упаду, мы входим в изрытую окопами и землянками лесопосадку. Из-за ночного происшествия настроение у меня препротивнейшее. Даже обед показался безвкусным. Хорошо, хоть выдали махорку, и я тяну цигарку за цигаркой.
У землянки ротного необычное оживление.
— Что там? — спрашиваю сержанта Федосеева, нового своего командира.
— Добровольцев на разведку боем собирают.
Разведка боем посложнее и поопаснее, чем просто общее наступление. На один батальон обрушивается весь огонь врага; хорошо, если уцелеет хоть половина бойцов. Но без такой разведки трудно выявить огневые точки противника, сосредоточение его танков и артиллерии, нащупать слабые места его обороны.
Я встаю и, ни слова не сказав сержанту, который отлично понимает мое состояние, иду к землянке ротного.
Командир роты, чувствуется, доволен моим решением.
Нас восемь человек. Попрощавшись с товарищами, мы идем на передний край в расположение какого-то пехотного полка, куда стекаются добровольцы из разных частей.
Поздним вечером из нас формируют отделения, взводы, роту и выводят на позицию, откуда утром мы должны будем начать разведку боем. Окопы для нас отрыты: нам нужно хорошенько выспаться и отдохнуть.
На рассвете начинается артподготовка. Через полчаса мы поднимаемся в атаку. Нас поддерживают десятка полтора танков. Растерявшиеся было от неожиданности гитлеровцы спохватываются и открывают такой огонь, что, не пробежав и ста метров по ничейной полосе, мы залегаем, пытаясь слиться с землей, вздрагивающей от разрывов снарядов и мин.
— Вперед! За Родину! Ур-ра!..
Да-да, черт с ними, с пулями и снарядами, надо идти вперед, потому что, если атака захлебнется, все пропало и ничего нам сегодня уже не сделать.
Мы встаем, пробегаем несколько метров, падаем и встаем снова…
В тот момент, когда мы спрыгиваем в первую немецкую траншею и в упор расстреливаем все еще сопротивляющихся фрицев, я чувствую, как что-то горячее шлепает меня по спине, между лопатками. Дотрагиваюсь рукой до спины — на ладони кровь. Боли нет, только почему-то начинает кружиться голова и немеет левая рука. И откуда-то появляется туман. Он сгущается и становится чернее ночи…
Совершеннолетие
Наш поезд не задерживают на станциях ни одной лишней минуты, потому что это не обычный, а санитарный поезд. И на мягких, по-домашнему застеленных его полках лежат уже не бойцы, а ранбольные. И я ранбольной. Вся левая рука, грудь и спина — в гипсе. Разрывная пуля, которую немцы зовут «дум-дум», раздробила предплечье, прошла около сердца и разорвалась меж лопатками.
А немцев мы тогда выбили. Я понял это, когда очнулся уже ночью в той же траншее, на том же месте. Рядом со мной лежал мертвый немец. Возможно, потому санитары меня не заметили и прошли мимо.
Гимнастерка, брюки в крови. Спину жжет каленым железом. Левой рукой не могу шевельнуть: она словно чужая. А правая — ничего, только затекла, пока я лежал без сознания, и теперь ее пронизывают тысячи тончайших иголок. Но это быстро проходит. Опираясь о стенку, встаю. На эту «операцию» уходят почти все мои силы. А надо еще нагнуться и взять винтовку. Слышу чей-то негромкий стон. Окликаю. Это Коля Турмасов из нашей роты.