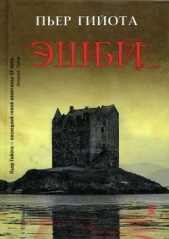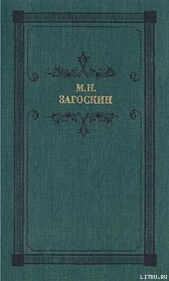Могила для 500000 солдат

Могила для 500000 солдат читать книгу онлайн
Впервые на русском языке один из самых скандальных романов XX века
Повесть «Могила для пятисот тысяч солдат», посвященная алжирской войне, страсти вокруг которой еще не успели утихнуть во французском обществе, болезненно переживавшем падение империи. Роман, изобилующий откровенными описаниями сцен сексуального насилия и убийств. Сегодня эта книга, впервые выходящая в русском переводе Михаила Иванова, признана величайшим и самым ярким французским романом современности, а сам Гийота считается единственным живущим писателем, равным таким ключевым фигурам, как Антонен Арто, Жорж Батай и Жан Жене.
Публикация «Могилы для пятисот тысяч солдат» накануне майского восстания в Париже изменила направление французской литературы, превратив ее автора — 25-летнего ветерана алжирской войны Пьера Гийота — в героя ожесточенных споров. Сегодня эта книга, впервые выходящая в русском переводе, признана величайшим и самым ярким французским романом современности, а сам Гийота считается единственным живущим писателем, равным таким ключевым фигурам, как Антонен Арто, Жорж Батай и Жан Жене.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Твои братья, выкапывая из-под отбросов корешки, видели, как твоего отца бросили на бруствер, кровь текла по известке, французы били его по голому телу прикладами; твои братья, прижавшись к стене, слизывали кровь; француи, свесившись с бруствера, топча твоего отца, плевали на бритые головы твоих братьев, плевки смешивались с кровью на их губах… Смотри… видишь, они не могут уснуть, лучи прожектора освещают их рождение, шарят по их испражнениям, по их ранкам и прыщам, освещают твой ночной уход и твое возвращение, мою руку, подгребающую угли в жаровне, месящую тесто для лепешек, греющих твой бок в засаде…
— Этой ночью прожектор направлен в небо, о звезды, судьи народов, светочи свободы, о мать!.. услышь шаги их напуганных стад; плакаты утопии шелестят на межзвездном ветру; там собираются на отдых израненные народы, минуя цветочные ковры и источники вод, где пламень зари тревожит их сон; тем временем, земля готовит новый инвентарь, на каждой террасе разного цвета и высоты ждет запряженный плуг, и мои ладони увлажняются на покрытых росой рукоятках…
Свежевыпавший снег покрыл тела, сгрудившиеся во дворе; дверцы уборных стучат, и ветер, задувающий под сваи, разносит замерзшие экскременты, швыряет их на тела солдат, заносит на бока, катает по губам. Солдат, примостивший голову на выступ скалы за палаткой, обняв руками бедра товарища, кричит, и вся группа часовых кричит, стонет, плачет в лица друг другу, спины и бока прижаты к направленному в небо горячему прожектору…
— Смерть голозадым! О мой кобель, обними меня крепче. Я отдам тебе мою жену. Брось моих детей в огонь, в навоз, раздави их ножками супружеской кровати, отягченной вашими сплетенными телами. Она ласкает, целует твои возбужденные мышцы. Разорви своими зубами, гнилыми от черного мяса и прокисшего вина, разорви своим задубевшим членом развешанные в сортире простыни, пропахшие тальком и отрыжкой новорожденных. Разнеси мою мебель. Ты, голый, в шерсти по колено, разносишь по спальне запахи снега и овечьего жира. Задуши, оглуши в их постели моих отца и мать. Перережь над его тетрадками горло сидящего за столом брата. Отметины зубов туземных блядей видны внизу твоего живота под волосами. Вскрой своим ножом, отрезатель ушей, натертый паркет и освободи источник, певший для меня в детстве в основании дома. Прянь в его воды, твою челюсть покроют стружки, земля и сухой цемент, зацелуй до смерти мою жену и, вставая, размозжи ее голову в ручье, запруженном спермой. И легкий, закинув ружье на плечо, обмотав вокруг боков накомарник, распахни дверь и, дойдя до лужайки, бросься в объятия наших рук, нагруженных агонизирующей добычей. О отрезатель ушей, вонзись вслед за нами в гущу ветвей, согретых нашими экскрементами. Запах крови женатых мужчин объял стогны града. Предпочтем ему вонь клопов, раздувшихся от нашей крови.
— О отрезатель пальцев, дарю тебе мою жену.
— Алчущий насилия, утоли свою жажду струей воды из заржавленного крана и вернись на ложе, раздирая кружева покрова загнутыми ногтями ног. Сядь на корточки у края кровати, я подую на твои холодные пятки, я вытру их своими потными волосами. О моя жена, я выпью твои склянки с духами, рассыпанные по складкам простыней. Я расчешу мои патлы детским гребнем. Я накручу твои бигуди на локоны в моем паху. Твое обручальное кольцо, брошенное в огонь, расплавится вместе с целлулоидными игрушками; мои товарищи в солдатской форме, примостившиеся у края кровати, оденут на тебя оковы ветра; их пальцы соберут вишни, рассыпанные по твоему лону, вишни дрожат на их ушах, на их губах; ночник освещает грязь на их стянутых шерстяными шарфами шеях, гной, налипший на пряди их волос. Их объемлет сон, они уронили головы на стоптанные кружева, лишь самый юный, самый тихий из них уснул на постели; к его щеке прилипла целлофановая обертка от банки с вареньем. Тогда луна пришпорит мой круп, я буду ебать тебя до зари, омывая все укромные местечки твоего тела, заброшенные, иссушенные за время моего отсутствия.
— О Кровавый Следопыт, я дарю тебе мою жену. Рядом с ней желание горит, как незакатное солнце…
Дверь кухни подается, три ворвавшихся туземца прокатились по плиткам, покрытым льдом; их сомкнутые рты переполнены мясом — его сырые волокна при поцелуе скользят по зубам; их руки ласкают оголенные крестцы: «…закончился праздник вольных мужчин: они блюют медовыми пирожными и лимонадом на двери свинарника; дети — горло забито конфетти, расцвеченные флаги намотаны на потную грудь под рубахой — вырывают, согнувшись, сухую траву на поле, примыкающем к бойне; женщины вытаскивают корыта для стирки белья на песок. О братья, они перережут глотки туземцам на столах для голосования; дети будут играть на песке в футбол отрубленными головами, женщина воткнет в обезглавленную шею туземца черпак, тарелку, столовый прибор; журавли улетают за границу; солнце облучает радиоантенны; после тьма сокроет горную вершину, исчезнет сожранная крысами блевотина; посреди ночи на куче навоза родится цветок; мы все сядем вокруг него на корточки, Мулу назовет его как свою мать, Мансур — как невесту, Сайд — как сына; склонившись над цветком, они гладят его; свиньи трутся о наши бока. Чтоб победить страх и сделать гибкими мышцы, скованные покорностью, мы, раздетые, будем любить друг друга, изогнувшись, загребая грязь руками и ногами; мы сплетемся в клубок до зари, сгибая суставы, сдирая кожу, прижавшись друг к другу жилами и ранами, смешавшись волосами. Утром одинокий человек, подстегиваемый дротиками партизан, поднимется на деревянную паперть церкви и опустит ногу в кипящую, заправленную ароматными травами воду; судорога сведет все его мышцы от лодыжки до черепа; на его еще сухой коже вздуются волдыри; но вот страшный жар разрывает его спину, верхняя часть туловища ломается и падает, голова раскалывается о край котла; подошедшие женщины помешивают куски плоти, они достают их пальмовыми шестами и бросают детям; те разбегаются, но женщины заставляют их через силу пожирать вареную человечину; солнце в зените бьет в неподвижную воду, где плавают куски плоти, женщины, дети, палачи спят, повалившись в траву, под сваями деревянной паперти; кровь сочится меж их зубов; птицы слетают на воду в котле, хватают куски, относят их в заросли, под ветви; вечером, проснувшись, женщины, дети, партизаны, легкораненые туземцы, заложники с выбитыми зубами бродят под персиками и абрикосами, жуя их цветы, пачкая в пыльце оружие и кнуты…»
Снег покрыл сплетенные тела; рты, забитые снегом, умолкли. Подростки перепрыгивают через заросли дрока, сталкиваются лбами, смеются, борются на насте; лучи перевернутого прожектора освещают заснеженные вершины. Лейтенант на заре толкнул дверь своей комнаты; он движется по галерее, сжимая в руке кусок мыла; часовые, сгрудившись в кучу, спят на вышке; лейтенант, присев на корточки, мажет мылом губы часовых, чертит кресты на их груди; после, когда часовые просыпаются, сплевывая мыло, он спускается во двор, мажет губы солдат и рисует кресты у них на груди; потом, присев, мажет открытые, испачканные спермой рты туземцев, чертит кресты на масляных торсах; днем он приносит и ставит на брезент деревянный настил, на который два солдата водружают ванну с теплой водой; он приказывает построившимся солдатам раздеться и, бросив грязные гимнастерки в бак для белья, который держат два туземца, сесть один за другим в ванну так, чтобы вода покрыла их плечи: «…пусть та вода, что смыла грязь с тела первого из вас, о мои молочные братья, расслабит ваши мышцы. Пусть выделения вашей ярости скопятся на краю ванны. И я рукой, не касавшейся срама, сотру ярость с губ моих, я задушу крик, что толкает мне в глотку взбешенная кровь. О вы, помесь плоти и духа! О плоть, ласкающая дух! Звери мои, руки мои. Запах членов источают ваши волосы, ваши руки, ваши голоса; совокуплением благоухают засады; словно невиданная прежде в этих местах птица, обосновался этот запах, расточаемый вами, обосновался в лесах и полях, словно невиданная в этих краях птица — она гнездится в купах дерев и щелях земли, отмеченных вашим дыханием, порхает из следов, оставленных вашими ногами, из развалин, оставленных вашими руками. Она предшествует вам в засадах, она запускает когти вам в пах, когда вы садитесь на корточки, вам в губы, когда вы оскорбляете женщин. В деревнях дети, оставшиеся сиротами от рук ваших, льнут к вашим бедрам и шарят по вашим карманам, набитым хлебом войны и пакетиками с кофе; девушки, в которых вы впрыскиваете свой яд, не бегут, когда вы подходите к ним и солнце освещает черный пот на ваших спинах. О мои молочные братья! Я сосал молоко ваших матерей. Потом, лежа в садах с юными девами, я сосал их губы и груди. В то лето, когда умерла моя родная мать, мои губы иссохли и отныне только мои пальцы мяли мой член, чтоб усмирить его. Склонись, мой торс над грудью девы или часового, все едино. Испусти, мой рот, любовный вопль. Брызните, мои слезы, омочите чрево, к которому я прижимаюсь щекой. О бедра, о колени, сомкнитесь! Твои щеки, твои губы улыбаются, когда нас обволакивает аромат моего опорожненного члена. Ты прячешь глаза у меня под мышкой. Ты высвобождаешь свой живот из-под моего. Лежа подо мной головой к моим ногам, ты ласкаешь мои сморщенные, твердые яйца, мой изготовленный к бою клинок, ты вливаешь свое свежее дыхание в его острие. В голубоватом сиянии капелька спермы дрожит и скатывается по твоим губам, ты раскрываешь последним жемчужинам свои глубокие глаза, твои ресницы захлопываются за ними; ты спишь, положив голову на мою выгнутую спину. Вытянувшись рядом с тобой, опершись на локоть, я ласкаю твою закрытую вагину, где потрудился мой дикий член. Я нюхаю ее. Я ее целую. Я созерцаю ее до глубокой ночи. Моя ладонь ласкает, облегает, обводит контуры твоей груди, твоего живота. Я склоняю свой взор на твою грудь и слежу за ее дыханием. Мой член сохнет на твоих губах, между твоих ресниц. О мои молочные братья! Вы, чьи жесты незамедлительно воплощают мечты, выберите по жребию того, кто, прикрыв двери моей комнаты от вас, занятых чисткой оружия и уборкой казарм, шагнет к моей постели, на мгновение ослепленный сумраком, и по моему приказу возляжет со мной. Потом, когда, пресыщенный ложем, с урчащим от голода чревом, он поднимется и начнет одеваться, я спущусь в деревню, где дети будут улыбаться расточаемому мной запаху совокупления, а коты и собаки — тереться о мои щиколотки…»