Вот кончится война...

Вот кончится война... читать книгу онлайн
Эта книга о войне, о солдатах переднего края, ближнего боя, окопа, о спешно обученных крестьянских детях, выносливых и терпеливых, не всегда сытых, победивших врага, перед которым трепетали народы Европы.
Эта книга о любви, отнятой войной у чистых юных душ. Мирное время, пришедшее на смену военным будням, порой оказывается для героев труднее самой войны.
Все произведения Анатолия Генатулина глубоко автобиографичны и искренни. Автор пишет только о том, что довелось пережить ему самому – фронтовику, призванному в армию в 1943 году и с боями дошедшему до Эльбы в победном 1945.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Не оглядывайся назад, – сказал Баулин.
– Почему?
– Бежать захочется.
Он понял мое состояние, потому как сам, наверное, тоже испытывал такое.
А немцы все ближе и ближе. Облепленные снегом и смутные в белой мгле бурана, они шли, бежали на нас отдельными кучками, вразброс, поодиночке. За передними, которые, развернувшись почти на километр, пытались держаться в цепи, просматривались задние, которых была тьма, может, до самого горизонта. В общем это была огромная толпа, прущая на нас с отчаяньем обреченных, в безумной надежде пробиться сквозь пулеметы на запад, к своим. Некоторые падали, убитые, а те, кого пули еще не скосили, перешагивали через трупы, шли, бежали на нас. В том, что они нас просто затопчут, просто пройдут по нас, как проходит, затоптав людей, обезумевший от страха вспугнутый стаей волков табун лошадей, в этом я уже не сомневался. Назад, к жизни, хода не было. Я мельком подумал о Полине, вернее, ощутил ее присутствие за спиной, почувствовал ее глаза, ее серые, грустные и ласковые глаза. «Вот видишь, Поля, в какую переделку попал я… наверное, погибну… а письма от тебя так и не дождался… «Или, может, как всегда в бою, мысль о возможности смерти просто допускалась, на всякий случай, как будто душа силилась привыкнуть к этой мысли, а на самом деле, в глубине, не верила, противилась…
– Толя, постреляй, я покурю! – сказал Баулин.
Он отодвинулся, достал из отворота шапки загодя свернутую цигарку и, спрятав лицо от ветра, прикурил от зажигалки. Я выпустил остаток пуль, снял диск, а когда, вставляя новый диск, коснулся казенника, обжег пальцы. Приложил к казеннику ком снега, снег зашипел и пар пошел. Я бил по наступающим немцам, бил прицельно, короткими очередями, я видел, как они падали, будто ложились, уткнувшись лицом в снег, я убивал их, я убивал людей, но не было в моем сознании того ощущения, что я убиваю людей. А они все ближе и ближе. Сквозь вихри бурана точного расстояния до них просто нельзя было определить; от нас до передних немцев, может, было не больше ста метров, но порой казалось, что они уже совсем рядом. И видно стало, что они не бегут стремительно, как мерещилось тогда, а быстро шагают, переходя временами в трусцу. Передние, сраженные нашими пулями, падают, а задние, перешагивая их, вырываются вперед. И короткими очередями на ходу строчат из автоматов, и наобум бьют из винтовок. Мы уже хорошо слышали их гвалт, крики, где-то правее нас звучала песня – пели немцы.
Я передал пулемет Баулину и принялся набивать диск. На какое-то время ветер разогнал облака, приоткрылся небольшой проем синевы над головой, снег вдруг перестал, и я, глянув вправо, увидел всех наших – вон Худяков, Андреев, дальше Музафаров с Шалаевым, за ними еще кто-то; поодаль, на правом фланге взвода, рядом со станковым пулеметом, во весь рост стоит взводный Ковригин и короткими очередями постреливает из трофейного автомата. А немцы, кучная толпа, что перла с песней, вырвалась вперед, как бы образуя острие направленного на нас треугольника, вошла в цепь, там, где наш эскадрон смыкался с соседним вторым эскадроном, и пошла дальше. Я видел, как четвертый взвод, бросая позицию, перебегает ближе к нам, как из-за снежного укрытия встал комэска и, махая рукой, что-то крича, тяжело побежал к отступающему взводу, видел, как несколько человек, должно быть, солдаты соседнего эскадрона, побежали назад, к коровникам; чувствуя, как постепенно овладевает мной отвратительный, тошнотворный страшок, я глянул назад, на коровник – вот бы где укрыться – и увидел, как из-за коровника, навстречу бегущим верхом на коне вылетел, я узнал, комполка полковник Шовкуненко в синей венгерке и кубанке и, что-то крича, поскакал наперерез бегущим. Бегущие задержались, хотя назад не вернулись, не могли вернуться, залегли там, где остановились, а комполка, постреляв с коня по немцам из пистолета, умчался обратно. Поглядывая на коровник, я заметил, что какие-то люди палят из окон, а кто-то высокий, в бурке и серой папахе, полувысунувшись из-за угла, стреляет по немцам из автомата. Ошалев от стрельбы, от людской колготы и гвалта, в загоне метались коровы; кто-то выскочил из-за коровника и, пригнувшись, пустился к нам.
– Патроны кончаются! – сказал я Баулину, подавая последний диск.
Выгреб остаток патронов из кармана шинели и зарядил свой карабин. Снова оглянулся назад и увидел, как из-за домов, что за коровником, наперерез прорвавшимся немцам выехал грузовик и, буксуя в снегу, тяжело пошел на фрицев, в кузове, держась за гашетки крупнокалиберного пулемета, стоял высокий человек в бурке и кубанке, рядом с ним – еще кто-то. Машина развернулась, и человек в бурке по толпе прорвавшихся немцев открыл огонь. Немцы заметались, попадали, шарахнулись в сторону и, обтекая машину, ринулись дальше. А те немцы, что шли на нас, вдоль шоссе, прямо на ферму, те немцы подошли к нам уже вплотную. Я уже видел их лица, их ошалевшие безумные глаза, оскал их ртов.
– Все, шабаш, – Баулин снял опорожненный диск, встал, вытащил из кармана кисет и стал свертывать цигарку; я заметил мельком, как у него дрожат руки и не слушаются пальцы.
Я тоже поднялся и отомкнул штык, тот штык, о котором мы вообще не помнили обычно. Мы встали потому, что лежать, когда фриц наступает на тебя ногой, было уже ни к чему. Музафаров с Шалаевым и Худяков перебежали к нам, а остальные метнулись к взводному и комэска. Баулин, угрюмо, исподлобья поглядывая на немцев, все еще пытался скрутить цигарку. А немцы, толпа, сотни или, может, даже тысячи, там, позади, все шли и шли, уже передние стали проходить через нашу разбитую цепь, мимо нас.
– Назад, гады, куда претесь?! – орал Шалаев, размахивая кулачищем, в котором была зажата граната.
Музафаров, бледный, как мальчишка в драке, делал вид, что целится в немцев из своего «Дегтярева», который он, как автомат, поносил на шею. А я, выставив штык, тоже кричал, что придется, ругался, матерился. Но было похоже, что немцы вовсе не собираются связываться с нами в рукопашной драке, хотя и без того они могли нас пристрелить запросто, их было вон сколько, но не стреляли, да мало того, пытались быстрее проскочить мимо нас, да к тому же карабины у всех были на плечах или даже за плечами. Как будто давали знать, дескать, мы вас не трогаем, вы тоже нас не трогайте, пропустите. Вдруг дошло до меня: у них, как и у нас, не было патронов. Автоматчиков и солдат с патронами они пустили впереди, а эти шли холостыми.
Я поглядывал назад и увидел, как машина с крупнокалиберным пулеметом, пробуксовывая, медленно отъезжает к ферме, как тот, в бурке, все еще стреляет на ходу короткими очередями. Человек, что бежал от коровника, уже был близко к нам, и я узнал его: наш коновод Решитилов. В руках ведра брезентовые. Догадался: патроны несет. Нет, не успел добежать до нас Решитилов: со стороны нашего тыла, оттуда, куда прорвались немцы, забили пулеметы, грохнули пушки, и снаряды стали рваться рядом с нами, чуть позади нас. Били по прорвавшимся немцам и в то же время били и по нас, по своим.
– Ложись!
Мы бросились наземь. Тррах-бах-бах. Я приподнялся, оглянулся: коровы, что метались в загоне, не выдержав заваруху, повалили изгородь и пустились по полю, бежали среди взрывов, среди немцев, пытаясь уйти прочь от страшного, непонятного им. Решитилов, упавший в снег, встал и, пригнувшись, тяжело затрусил к нам. Добежал, запыхавшись, глянул на нас своими стариковскими, всепонимающими и жалостливыми глазами, высыпал из брезентового ведра нам на полы шинелей патроны, сунул каждому по лимонке и, прокричав через одышку: «Там комдив Чурилин по немцам из автомата лупит!», побежал дальше, к тем ребятам, которые перебежали к Ковригину. Он бежал среди немцев, идущих вразброд, бежал поперек их неудержимого смертного хода; немцы что-то кричали, но не трогали Решитилова, им, видно, было не до него. Все это показалось мне странным, неправдоподобным, расскажешь потом кому-нибудь, не поверят. Мы принялись набивать диски патронами.
Тут снова заволокло синеву низкими тучами, и опять густо повалил снег. Стрельба из пулеметов и ухание пушек приблизились, снаряды грохали уже совсем рядом; тут что-то сломалось в неудержимом животном ходе немцев мимо нас, они закружились, затоптались и заметались, как коровы в загоне, одни побежали назад, смешиваясь с теми, кто все еще шел на нас, и исчезали в белых волнах снегопада, другие продолжали ход в нашу сторону, но уже с поднятыми руками, без оружия, что-то громко галдя и моля о чем-то. Побросав оружие, они сдавались в плен. Какой-то немец, рослый, худой, заросший, оскалясь и что-то крича, приблизился к нам, одну руку он поднял, другую приложил к груди.

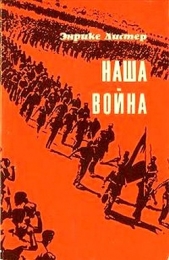
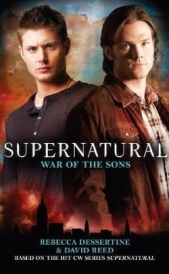


![Архимаг. Колдовская война [трилогия]](/uploads/posts/books/6658/6658.jpg)




















