«Окопная правда» Вермахта
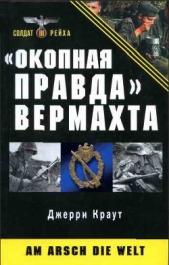
«Окопная правда» Вермахта читать книгу онлайн
Даже заклятые враги Третьего Рейха признавали, что как минимум до 1944 года немецкий солдат превосходил неприятеля и по уровню боевой подготовки, и по организованности и осмысленности боевых действий. Победоносный Вермахт громил всех своих противников — пока не столкнулся на полях сражений с бойцами Красной Армии. Однако и нам Победа стоила огромных потерь, многократно превышавших немецкие, — слишком сильны были «фрицы», слишком опытны, инициативны, отважны, слишком хорошо вооружены и обучены.
Эта уникальная книга — первое комплексное исследование боевой службы и повседневной жизни немецкой пехоты на фронтах Второй мировой, особенно ценное потому, что не только освещает ход боевых действий, но и позволяет взглянуть на войну «изнутри», глазами простого Landser'a («земляка», как называли друг друга солдаты Вермахта) — как они одевались и питались, что пили и курили, в какие приметы верили, каким жаргоном пользовались, какое оружие предпочитали, как оценивали противника и собственное командование, на что надеялись, над чем смеялись, что ненавидели и чего особенно боялись.
Это — «окопная правда» по-немецки, настоящая энциклопедия жизни и смерти на Восточном фронте, прослеживающая весь путь немецкого солдата от junger Dachs («барсучонок», т. е. новобранец, «салага») до alter Fronthase (ветеран — дословно: «старый фронтовой заяц»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Безликий ужас по крайней мере на мгновение обрел собственное лицо, однако Милерт напрасно пытался проникнуть в суть этого отвратительного явления. «Мы безуспешно пытались разузнать у них, что они чувствовали, — писал он. — Они отвечали только одно: холод и усталость». Как обыденно, грубо и по-человечески. Милерт разочарованно заключает: «Из этого примера видно, что способен выдержать человек». Глубинное зло войны ускользнуло от внимания даже такого здравомыслящего солдата, как Милерт. Здесь страдания казались лишь банальными и убогими, но никак не оригинальными или героическими. Пожалуй, из всего этого можно было извлечь только один настоящий урок: даже среди жестокостей войны жизнь продолжается.
Во время зимних боев 1941–1942 гг. и снова во время отступления по выжженной земле из России солдаты упорно цеплялись за жизнь среди разрушений, масштаб которых трудно себе представить. «Невозможно передать впечатления этих призрачных недель, — писал Гюнтер фон Шевен во время ожесточенных боев февраля 1942 года. — Ужасы, через которые довелось пройти, преследуют меня во сне». Вернер Потт вторил ему меньше чем через две недели после советского контрнаступления под Москвой: «Несколько недель мы вели бои без перерыва или отдыха, день за днем… с маршами в метель при минус 25 градусах, с обмороженными носами и ногами, когда вопишь от боли, снимая сапоги, с грязью, паразитами и прочими мерзостями… Вдобавок ко всем невзгодам, которые приходилось переносить, мне было жаль гражданское население, чьи дома были сожжены при нашем отступлении и которое было обречено на голод. Как же очевидна жестокость войны!»
Казалось, пылало все — даже земля. «Мы едем сквозь темную ночь, наполненную гудением моторов, — писал Гельмут Пабст в августе 1942 года на пути к Волге. — Земля содрогается от мощных ударов, мерцают огоньки зажигательных бомб… в темноте сверкают фиолетовые вспышки… Картину дополняют неровные росчерки сигнальных ракет: «Мы здесь, друзья! Мы здесь!» Есть в этом безмолвном крике с дальних рубежей что-то нереальное. Мы едем к этим рубежам по руинам мертвого города, в котором живет только огонь, от которого исходит сладковатый запах». Шестью месяцами позже, отступая от Волги, этой роковой реки, Пабст описывал мрачную, но все еще запоминающуюся картину разрушения: «В мостовых зияют воронки…
Красные языки пламени вырываются из дыр в каменных стенах домов, высоко поднимаются над крышами. В последнее время местность совершенно обезлюдела: зданий и шпилей, последних километровых столбов больше нет… Позади нас мерцают вспышки, освещающие небо от горизонта до горизонта. До нас докатываются приглушенные звуки взрывов. Перед нами разыгрывается ужасная и великолепная по силе драма». В этом «ландшафте ужаса и смерти» законченность картины разрушения поражает даже таких закаленных ветеранов, как Пабст, признавший однажды, что он был свидетелем «лишь малой толики разрушений, смехотворно малой». Вот что писал в марте 1943 года другой солдат: «Сегодня нам пришлось забрать из деревни всех мужчин, которые оставались там с прошлого раза… Представьте себе плач женщин — ведь нам пришлось отнять у них даже детей… В деревне мы сожгли три дома, и в одном из них сгорела заживо женщина. И точно то же самое будет происходить по всему фронту, в каждой деревне… Какое причудливое зрелище — повсюду, куда ни бросишь взгляд, видно только пылающие деревни».
Вот он, пример бессмысленной жестокости и разрушения, дополнявших ужасы войны, сопровождавшие вермахт в России. Кристофер Браунинг подчеркивает, что для рядового немца политика массового истребления, которую нацистский режим проводил в Восточной Европе, не была чем-то из ряда вон выходящим и представляла собой обычную часть повседневной жизни. «Партизаны взорвали несколько наших машин, — писал рядовой Г. М., служивший в разведывательном подразделении, — и застрелили уполномоченного по сельскому хозяйству в собственном доме вместе с приданным ему ефрейтором… Вчера рано утром на окраине города было расстреляно 40 человек… Естественно, среди них были и невиновные, которым пришлось отдать свою жизнь…Времени на выяснения не тратили и просто расстреляли тех, кто попался под руку». Такие казни происходили почти каждый день. Клаус Хансманн оставил удивительно яркое описание казни советских партизан:
«Серая, полуразрушенная улица в Харькове. Взволнованные, бледные лица измученных людей. С деловым видом появляются несколько солдат фельджандармерии и с привычной ловкостью привязывают к перилам балкона семь петель, после чего скрываются за дверью в темной комнате… Наружу выносят первого человека. Он крепко связан по рукам и ногам, лицо закрыто куском ткани. С пеньковым галстуком на шее и с надежно связанными руками, его ставят на перила и снимают повязку с глаз. На мгновение становятся видны его глаза, горящие, словно у вырвавшейся на волю лошади. Потом он устало и расслабленно опускает веки, чтобы никогда больше их не открыть. Он медленно сползает вниз, собственным весом затягивая петлю. Его мышцы начинают безнадежную схватку. Тело сильно дергается, извивается. Несмотря на путы, его тело сражается до конца. Все происходит быстро. Их по одному выводят, ставят на перила… У каждого на груди табличка, в которой говорится о его преступлении… Партизаны и справедливое наказание… Иногда кто-то из них высовывает язык, словно в бессознательной насмешке, и на землю капает слюна… Потом кто-то смеется, адресуя свои шутки тем, кто еще остается наверху».
Откуда же такая грубая на первый взгляд реакция? «Ты радуешься, что умер другой, — объяснял Хансманн, прекрасно понимая облегчение, которое испытывает солдат, осознавая, что на этот раз боги войны его пощадили. — Ты смеешься, словно над неожиданной шуткой… Иногда смеешься облегченно». А затем все кончается. Что же дальше? «Мертвецы скучны, — размышляет Хансманн. — Они с немым укором смотрят на живых. Улицы пустеют. Люди проходят мимо. Ты поворачиваешь к рынку, чтобы купить лука и чеснока. Больше они тебя не интересуют. Теперь ты голоден!» Внезапная человеческая драма, небольшое отклонение от привычного уклада жизни — а потом трапеза: обычный порядок повседневной военной жизни. Как писал Хансманн по другому поводу: «В смерти все равны…
Одинаково неподвижны, одинаково безмолвны и одинаково придавлены комьями земли».
Однако не все воспринимали подобные события как должное. «Я переживаю кошмарные дни, — писал лейтенант А. Б. из 115-й железнодорожно-строительной роты в октябре 1942 года. — Каждый день 30 моих заключенных умирают, или мне приходится давать разрешение на их расстрел. Конечно, это жестокая картина… Пленные, кто одетый, кто без шинелей, больше не могут обсушиться. Еды не хватает, и они один за другим падают без сил… Когда видишь, чего на самом деле стоит человеческая жизнь, переживаешь внутреннее перерождение. Пуля, слово — и жизни больше нет. Что значит жизнь человеческая?» В войне в России она не значила практически ничего.
Бремя злодеяний тяжким грузом висело и на других солдатах, внутренне осознававших бесчеловечность своих действий. «Мир повидал немало великих и даже жестоких войн, — в отчаянии писал Курт Фогелер. — Но, наверное, никогда за время своего существования он не видел войны, сравнимой с той, что идет сейчас в Восточной Европе… Бедный, несчастный русский народ! Его страдания невозможно выразить словами, а его несчастья просто разрывают душу… Наше время… больше не знает, что такое человечность. Безжалостность в применении силы — вот особенность нашего века… Что за злосчастная война, эта бойня в Восточной Европе?! Преступление против человечества!» Точно так же жестокость войны в России заставила содрогнуться и Хайнца Кюхлера: «Последние следы человечности, похоже, исчезли из поступков, из сердца и из сознания». На жалобы из дома о разрушении немецких городов Йоханнес Хюбнер эмоционально ответил из России: «Смерть — плата за грех». Это же чувство разделял и Гарри Милерт: «Суть заключается, как мне кажется, в том, что существует кара для человека, причиняющего зло другим». Рядовой JI. Б. ограничился резким предупреждением. «Никто, — писал он, — не останется безнаказанным в этой войне. Всякий получит по заслугам и в тылу, и на фронте».


























