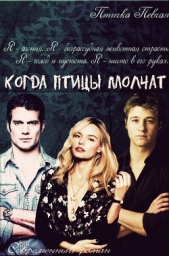Птицы поют на рассвете
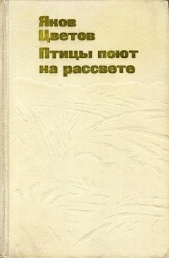
Птицы поют на рассвете читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хусто, — заторопился Ивашкевич. — Хусто! И Захарыч, сюда! — В белых маскировочных халатах смутно отделились они от белой земли. — Обыщите поляну, все кусты обшарьте!
Они канули во тьму.
Подбежал Левенцов.
— Командир ранен?
— Да, — тяжело вздохнул Ивашкевич… — А Петро убит. В самом начале боя. Вот здесь, у кустов, упал.
Из сосняка посыпалась длинная очередь.
— Ну и лупит, сволочь, — припал к земле Ивашкевич. — Ну и лупит… Пробовали вывернуться в лес, туда, за сосняк, а не даем. Вот и кроют сюда. Алеша! Блинов! — позвал. — Дай-ка по сосняку, дай по правому уголочку. Весь диск, разом! Выбить надо оттуда сволочь…
Искали Кирилла. Его нигде не было. Захарыч заметил на снегу что-то длинное и темное. Подошел. У сломанного дерева лежал Кирилл.
— Кирилл… Кирилл… — тормошил его Захарыч. — Вот ты где…
Алеша Блинов и Хусто уже бежали к нему.
— Нашел?
«О чем это они? — подумалось Кириллу. — А…» — все-таки понял.
— Зачем здесь? — прохрипел он. — На место! На место! Продолжать бой! — Но произнес это совсем глухо.
— Все почти кончено, — успокаивал его Захарыч. — Столько гитлеровцев лежит на дороге. Сейчас начнем их обыскивать. Комиссар сказал.
Приближался Коротыш, с ним Крыжиха и Ирина.
Оказывается, Коротыш уже был здесь, вон следы его ног. Он первый нашел командира и полетел за Крыжихой.
Крыжиха расстегнула сумку, локтем коснулась своего лба — не то вытерла пот, не то поправила прядку, выпавшую из-под ушанки. Потом склонилась над Кириллом и почувствовала, что руки его в крови.
Ловкими движениями перевязывала его широким бинтом. Кирилл чуть не задохнулся от боли.
— Коротыш, — подняла Крыжиха голову. — Беги к комиссару. Скажи — нужен врач.
Коротыш рванулся к кустам у дороги.
— Врач? — переспросил Ивашкевич. Помолчал. Потом: — Михась!
Как длинная вечерняя тень, рядом с Ивашкевичем растянулась на снегу фигура Михася.
— Ранен командир, — полуобернулся к нему Ивашкевич. — Крыжиха тут не годится. Быстренько снимайся и ветром — в Медведичи. Там в отряде есть врач. И как можно скорее скачи с ним в наш лагерь. У них лошади. Ветром, ветром, Михась!
Длинная тень отодвинулась от Ивашкевича и сразу исчезла.
— Левенцов, держи сосняк. На дорогу пока не выходить. Я быстро. Давай, Коротыш. Далеко лежит?
Крыжиха все еще бинтовала Кирилла.
— Кирилл, — Ивашкевич опустился на колени в снег. — Кирилл. Послал за врачом. Скоро двинемся. А там — все в порядке!
Кирилл не ответил. Он вздохнул, боль, кажется, отступила.
Веки медленно сомкнулись, разделив мир надвое. В том мире, который они удержали, стало тихо, тихо и легко, над всем царило ласковое безмолвие. Чувство облегчения вливалось в успокоенное сердце, словно он перешагнул через все жестокое, выполнил все самое трудное и теперь испытывал лишь любовь ко всему, что хранил в себе, такую же сильную, как ненависть, которая только что безраздельно владела им.
Кажется, боль опять выползает откуда-то изнутри. Становится больно, невыносимо больно.
Он открыл глаза: сверкнул огонек выстрела, словно звезда покатилась в снег. Это было последнее, что восприняло его сознание.
Кирилл очнулся от собственного стона. Он втянул носом воздух, воздух был сухой и колючий, и слипались ноздри. Тысячи иголок впились в его кисти, ладони, пальцы. Руки, чувствовал Кирилл, были твердые и прямые. «Как столбы у дороги, — подумал он, — поднеси руки к уху, и услышишь, они гудят». Но в негнущихся пальцах не было силы, и внутри больно щемило, и это уже было наяву. Ему показалось, что лежит в вагоне, на полке, поезд бешено несется, вагон тяжело качает из стороны в сторону, и никак не приноровиться к этому движению. Куда же мчится этот поезд? Куда и зачем? Из памяти почему-то исчезало все, что происходило с ним сейчас, и с удивительной отчетливостью припоминалось то, что было давным-давно, словно события поменялись местами. Ни в чем не было ясности. В голове все кружилось, путалось, терялось, потом возникало снова, и виделись ему московская площадь Дзержинского, и казармы на окраине города, и речушка Ола в родной деревне, и Мартынов мосток над ней, и окопы на окраине Мадрида, и Светланка — все это соединялось с самыми неожиданными картинами, с чем попало. Мысли возникали какие-то неоформленные и тотчас иссякали, оставалось чувство примиренной усталости, словно все желания уже сбылись.
Кто это шумно и часто дышит впереди? И чья голова все время стоит у глаз? И темно почему? Никогда еще так мучительно не чувствовал он, что не хватает света, обыкновенного света, когда все видно, все на месте. Черное небо смешалось с черным лесом, и в черном пространстве потерялось все — люди, дороги, голоса, звезды… Только белая зябкая полоса под чьими-то ногами не сдавалась, и он старался смотреть вниз, в белое. Он силился что-то вспомнить, что-то очень важное и нужное ему, но оно ускользало, и этот пробел в памяти раздражал и мучил его. Внезапно его осенило. Дорога… сани в коврах… и собака… выстрелы, крики… Он почувствовал, что именно это связывало его с жизнью, потому и не мог успокоиться, пока не вспомнил дорогу… сани… выстрелы… Вспомнил и уже не выпускал из памяти. В голове все это держалось, словно бой еще продолжался.
— Генерал? — глухо произнес Кирилл. Он и сам понимал, что глухо и невнятно. Но должен же его услышать тот, чья голова маячит перед глазами.
— Все, — не обернулась голова, но Кирилл по голосу узнал Хусто. — Лежит на дороге…
— Лежит?..
А! Дорога… сани… выстрелы… Он снова подумал об этом, но медленно, он хотел продлить радость удачи. Он знал, что еще не раз будет вспоминать и переживать эту радость, но сейчас ему хотелось насладиться ею до конца. Кирилл не мог держать голову ровно, над плечами, она склонилась набок и бессильно повисла.
Хусто двигался, поддерживая обеими руками отяжелевшее тело командира. Руки дрожали, и Хусто чувствовал, как от долгого напряжения они слабеют. На секунду выпрямил одну руку, снова подхватил ею Кирилла и высвободил другую. Шаг, еще шаг. Все труднее переставлять подгибающиеся ноги. Хусто слышал, как билось сердце Кирилла, то гулко, то замирая. Может, ему лишь казалось, что слышал, а на самом деле стучало у него самого в груди? Он уже ощущал себя слитным с тем, кто припал к его спине, неуверенно обхватив кистью левой руки его шею. Будто тащил собственное тело, ставшее вдруг таким тяжелым.
— Постой, Хусто! Хусто, постой…
Ноша мешала ему повернуть голову на зов — черная ель говорила надежным голосом Захарыча. Хусто услышал шаги, затем почувствовал его сильные руки.
— Давай. Понесу.
Захарыч подставил спину, и Хусто осторожно переложил на нее свою живую ношу. Он выпрямился и только сейчас увидел, как возле него мелькали, пропадали и снова возникали фигуры. Легкие, скользящие, они были похожи на тени. Туда же, куда направлялись фигуры, похожие на тени, двигался и Захарыч, согнувшись, широко расставляя ноги и проваливаясь в снегу.
42
Кирилла внесли в землянку, положили на сосновый стол. Ноги свешивались вниз. Голова чуть вдавилась в подушку — наволоку, набитую соломой. Керосиновая лампа, подвешенная к потолку, бросала беловатый свет на заострившееся с выдавшимися скулами лицо Кирилла.
Он узнал землянку. Но что-то в ней изменилось. Он не знал — что. Смутно улавливал он, что перемена в нем самом, просто сейчас по-иному чувствовал себя здесь. Чего-то не хватало ему, может быть обычной своей уверенности, твердой походки, шутки, может быть. Его одолевала слабость. Вдруг сообразил, что нары не тут, где лежит, вон где его нары. «А, не все ли равно», — махнул рукой. Но руки, видел он, лежали неподвижно, слишком тяжелые и чужие, чтобы даже шевельнуть ими. Кто-то открыл дверцу печки, и оттуда выглянул огонь. «Топят», — равнодушно посмотрел Кирилл. Он не мог понять, холодно в землянке или жарко.